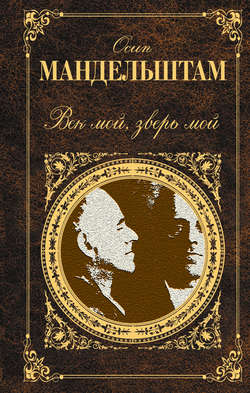Читать книгу Век мой, зверь мой (сборник) - Осип Мандельштам - Страница 65
Проза
Египетская марка
V
ОглавлениеМать заправляла салат желтками и сахаром.
Рваные мятые уши салата с хрящиками умирали, от уксуса и сахара.
Воздух, уксус и солнце уминались с зелеными тряпками в сплошной, горящий солью, трельяжами, бисером, серыми листьями, жаворонками и стрекозами, в гремящий тарелками барбизонский день.
Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками, к зенитному завтраку, устилая траву фельетонами и заметками о булавочно маленьких актрисах.
К барбизонским зонтам стекались гости в широких панталонах и львиных бархатных жилетах. А женщины стряхивали мурашей с круглых плеч.
Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались пару и, растрепав занавески, играли с ромашковым полем в лото.
Паровоз, в цилиндре, с цыплячьими поршнями, негодовал на тяжесть шапокляков и муслина.
Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн.
Уже весь воздух казался огромным вокзалом для жирных нетерпеливых роз.
А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры китайского театра в старинной пьесе с палачом, чванились скипидарными лапками и влачили боевые дольки еще не разрубленного тела, вихляя сильным агатовым задом, словно военные лошади, в фижмах пыли скачущие на холм.
Парнок встряхнулся.
Ломтик лимона – это билет в Сицилию к жирным розам, и полотеры пляшут с египетскими телодвижениями. Лифт не работает.
По домам ходят меньшевики-оборонцы, организуя ночное дежурство в подворотнях.
И страшно жить, и хорошо!
Он – лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофием налетающая ночь.
В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, – особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и с графином кипяченой воды.
Еще раз повторяю: величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются.
В это время проходили через площадь глухонемые: они сучили руками быструю пряжу. Они разговаривали. Старший управлял челноком. Ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетение не повредилось. На них на всех – их было четверо – полагалось, очевидно, пять мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и, непрерывно заметывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку.
Староста в гневе перепутал всю пряжу.
Глухонемые исчезли в арке Главного штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей.
Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт – это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом.
Нотная страница – это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий; во-вторых – это план, по которому тонет ночь, организованная в косточки слив.
Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, – ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат.
Миражные города нотных знаков стоят, как скворешники, в кипящей смоле.
Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей.
Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая целые вывески поджарых тактов, – это, конечно, Бетховен; но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку – это тоже Бетховен.
Нотная страница – это революция в старинном немецком юроде.
Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.
Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге – это Гендель.
Но до чего воинственны страницы Баха – эти потрясающие связки сушеных грибов.
А на Садовой у Покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров – к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лещетицкого.
Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу.
Рояль – это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, сонатинами…
Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.
Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, – сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валяных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом – концертным, желтым, зловещим, нахохленным, зимним.
Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа – публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк – первоначальный нажим – на «приезжай ради бога», на «скучаю» и «целую» небритых похабников, шепчущих телеграммку в надышанный меховой воротник.