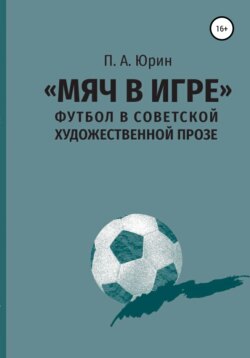Читать книгу «Мяч в игре»: Футбол в советской художественной прозе - Павел Андреевич Юрин - Страница 4
Глава 1. Отношение писателей к футболу
1.2. Футбол в воспоминаниях, дневниках и произведениях советских писателей: pro et contra
ОглавлениеСпорт как объект действия, а не наблюдения требует простых и немедленных, а потому однозначных и неразмышляющих решений. Выискивать же доводы и контрдоводы, сомневаться, оправдывать виновного, открывать ему своё кровоточащее сердце – удел писателей русских[54].
Футбол впервые появляется в воспоминаниях, дневниках, а также и в художественных произведениях тех русских писателей, детство которых пришлось на 1900–1910-е годы. Обычно их культурные, иногда даже элитарные семьи жили в столице или крупных городах.
Тенишевское частное коммерческое училище в Петербурге было одним из первых учебных заведений, в котором стал приживаться футбол. Об игре в мяч писал, в частности, О. Э. Мандельштам, окончивший Тенишевское училище в 1907 году. В автобиографической повести «Шум времени» Мандельштам отмечал, что ученики играли в футбол во дворе доходного дома на Загородном проспекте в Петербурге[55] (очевидно, того, где провёл детство автор повести, или одного из соседних). «Пещерный футбол»[56] (курсив наш. – П. Ю.) – такой эпитет использует поэт для характеристики первых опытов этой игры в России. Именно Мандельштаму принадлежит одно из наиболее эффектных изображений футбола в русской лирике. Другой известный выпускник Тенишевского училища, В. В. Набоков, писал о введении спортивных игр как способе проведения досуга в учебном процессе:
Училище, в которое он (отец Набокова. – П. Ю.) меня определил, было подчёркнуто передовое. Как мне пришлось объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт[57].
В. В. Бианки, автор многочисленных рассказов о животных, один из ведущих детских советских писателей XX века, в юности играл в футбол. Сначала он выступал за дачную команду «Лебедь» (Лебяжье, около Ораниенбаума), а затем за несколько петербургских футбольных клубов, участвовавших в розыгрыше Петербургской футбольной лиги: «Петровский» (1911), «Нева» (1912) и «Унитас» (1913–1916). В составе «Унитаса»[58] Бианки в 1913 году стал победителем Весеннего кубка Петербурга. Его партнёрами по нападению[59] были знаменитые братья Бутусовы[60]. А. А. Ливеровский, советский химик, писатель и охотник, муж Е. В. Бианки, дочери писателя, отмечал, что последний в годы футбольной юности носил «репутацию классного игрока, хотя в сборные команды города и не привлекался (иногда приглашался на тренировочные матчи)»[61].
М. М. Зощенко в главке «Я занят» автобиографической повести «Перед восходом солнца» также упомянул об увлечении футболом:
Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю, украдкой поглядывая на окно второго этажа. Мое сердце сжимается от тоски.
Там живёт Тата Т. Она взрослая. Ей двадцать три года. У неё старый муж. Ему сорок лет. И мы – гимназисты – всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы.
И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою причёску, потягиваясь и зевая.
Увидев меня, она улыбается.
Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада – такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на неё смотреть.
Улыбаясь, Тата Т. говорит мне:
– Мишенька, зайдите ко мне на минутку.
Моё сердце колотится от счастья, но, не поднимая глаз, я отвечаю:
– Вы же видите – я занят. Играю в футбол.
– Тогда подставьте свою фуражку. Я вам что-то брошу.
Я подставляю свою гимназическую фуражку. И Тата Т. бросает в неё маленький сверток, перенизанный ленточкой. Это шоколад.
Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть.
Дома я съедаю шоколад. И ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол[62].
Здесь отчётливо проявляется сублимативная функция футбола: игра выступает как «один из трансформаторов табуированных импульсов либидо»[63]. Приведённый пассаж из повести Зощенко представляет собой демонстрацию замещения любви спортивной игрой – опорного тезиса в рассуждениях литературоведов, исповедующих психоаналитический подход к интерпретации футбола в советской прозе. Сходный пример замещения можно обнаружить и в повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД», действие которой происходит уже в начале 1920-х годов:
Так как на лето школа осталась на этот раз в городе, надо было искать курорт, и его после недолгих поисков нашли в Екатерингофском парке на берегах небольшого пруда, около старого Екатерининского дворца. Сюда устремились теперь все помыслы шкидцев: к воде, к зелени, к футболу, и здесь за беспрерывной беготней постепенно забывались тёплые белые весенние ночи, нежные слова и первые мальчишеские поцелуи.
На смену любви пришёл футбольный мяч[64].
Из дневниковых записей Ю. К. Олеши мы знаем, что будущий писатель играл в футбол в годы обучения в Ришельевской гимназии в Одессе, принимал участие в первенстве футбольных гимназических команд в рамках Олимпийских игр Одесского учебного округа[65]. О футбольном увлечении молодого Олеши вспоминал В. П. Катаев в романе «Алмазный мой венец»:
Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед – маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте.
С поворота он бьёт старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота – два столба с верхней перекладиной.
Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:
– Браво, я![66]
«Маленький и шустрый гимназист Олеша играл за свою Ришельевскую гимназию в пятёрке нападения, и я помню день его славы, когда в решительном матче на первенство гимназической лиги Олеша забил гол в ворота противника»[67], – писал об этом же игровом эпизоде одесский поэт и прозаик С. А. Бондарин.
Игра вызывала у Олеши восторг, чего нельзя сказать о его родителях:
Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое – этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресенье. Играют в мяч… Ногами? Как это – ногами? Игра эта представлялась зрителям неэстетической, почти хулиганством: мало ли что придет в голову плохим ученикам, уличным мальчишкам! Напрасно мы пускаем Юру на футбол. Где это происходит? На поле Спортинг-клуба[68], отвечал я. Где? На поле Спортинг-клуба.
– Что это? Ничего не понимаю, – говорил отец, – какое поле?
– Спортинг-клуба, – отвечал я со всей твёрдостью новой культуры[69].
Пережил увлечение футболом и М. А. Булгаков. Е. А. Земская, племянница и крестница писателя, ставшая впоследствии видным лингвистом, вспоминала:
Когда в Киеве появился футбол, Михаил ещё был гимназистом. Он увлекся футболом (он умел увлекаться!) и стал футболистом. Вслед за ним стали футболистами младшие братья[70].
В старших классах гимназии Михаил Афанасьевич увлекся горячо, как он умел, новой игрой – футболом, тогда впервые появившимся в Киеве: а вслед за ним и младшие братья стали отчаянными футболистами[71].
Любовь к футболу разделяли и многие другие видные советские писатели. Одним из наиболее богатых источников информации на эту тему являются мемуары А. П. Старостина «Встречи на футбольной орбите». Автор, известный советский футболист, был знаком с Н. Р. Эрдманом, А. А. Фадеевым, Н. Н. Асеевым, И. Э. Бабелем. Спортсмена и перечисленных писателей объединяла любовь как к футболу, так и к другим видам спорта[72]. О Фадееве Старостин писал: «Как потом выяснилось, он тоже играл в юности и в футбол, и в хоккей где-то у себя на родине в Приморском крае»[73]. Автор «Молодой гвардии» и «Разгрома» нередко появлялся на трибунах футбольных стадионов. Олеша, близкий друг Старостина, вспоминал о том, что в один из дней на стадион пришёл футболист вместе с неким Александром Александровичем, но догадался о том, кем был последний, лишь потом. «Было интересно думать, что где-то на трибунах будет сидеть Фадеев и смотреть матч»[74]. Фадеев, Олеша, а также Л. А. Кассиль и актёр М. М. Яншин часто посещали старинную тренировочную базу футбольного клуба «Спартак», расположенную в подмосковном посёлке Черкизово.
Своеобразно относился к футболу и к спорту в целом В. В. Маяковский. Поэт не признавал спортивный бег, любил играть в бильярд, «был игрок спортивно непримиримого характера, верящий только в свои личные возможности и способности»[75]. Что касается футбола, то отношение Маяковского к игре можно назвать отрицательным:
С Маяковским меня познакомил Николай Николаевич Асеев в коридоре небольшого зала Дома Герцена, где Владимир Владимирович в этот вечер читал свои стихи.
– А, мускулы… – добродушно-иронически прогудел поэт, протягивая руку, когда Асеев отрекомендовал меня футболистом. Я ответил футбольной строчкой из его стихотворения. Реакция была положительная: в сдержанной улыбке чуть дрогнули уголки рта, и подбородок стал тяжеловеснее[76].
По мнению А. А. Акмальдиновой, О. А. Лекманова и М. И. Свердлова, за фразой поэта «А, мускулы…» «кроется совсем не “добродушная ирония”, а пренебрежение и, возможно, нежелание вникать в сущность футбола, чтобы отличать его от других видов спорта, занятие которыми с тем же успехом может быть охарактеризовано определением “мускулы”»[77]. В творчестве Маяковского есть стихи о спорте и о футболе, однако предмет изображения и переживание описываемого лирическим героем овеяны негативными коннотациями. Футбол понимается поэтом как «скучная и некрасивая потасовка под прикрытием пышной терминологии»[78] в поэме «Летающий пролетарий» (1925), как симптом «дачной горячки», отрывающей поэта от работы, в стихотворении «Весна» (1927). Наконец, в стихотворении «Товарищи, поспорьте о красном спорте!» (1928) игра мыслится Маяковским как нецелесообразное спортивное занятие, вследствие которого люди уподобляются животным[79], а действия людей «изображаются как бессознательные, рефлекторные»[80]:
Но зато —
пивцы́!
Хоть бочку с пивом выставь!
То ли в Харькове,
а то ль в Уфе
говорят,
что двое футболистов
на вокзале
вылакали
весь буфет.
И хотя
они
к политучебе вя́лы,
но зато
сильны
в другом
изящном спорте:
могут
зря
(как выражаются провинциалы)
всех девиц
в окру`ге
перепортить![81]
На наш взгляд, авторы монографии о футболе в поэзии 1910–1950 годов точно раскрывают причину неприязни и нелюбви Маяковского к футболу и спорту в целом: «Посвятивший всего себя служению “новому” и яростному отрицанию “старого”, мечтавший вместе с пионерами и комсомольцами “выволакивать будущее”, но отнюдь не увлекавшийся спортом в целом и футболом в частности Маяковский не мог не испытывать острой ревности, слыша разговоры о футболе как главной игре “молодых”»[82].
Изначально негативное отношение к спорту было присуще и М. Горькому, осуждавшему распространение спортивных зрелищ и видевшему в них потворство культуре Запада. Однако в 1930-е годы, незадолго до смерти, писатель изменил прежнюю точку зрения. Перемена воззрений на спорт иллюстрируется, например, в статье Горького «Динамовец начеку», написанной 12 октября 1932 года. За три дня до появления этой статьи Горький встретился с членами общества «Динамо» и с восторгом говорил о развитии физкультурного движения в СССР. Е. Рябчиков, один из слушателей Горького в тот день, вспоминал:
Физкультура – не самоцель, убеждённо говорил Горький, физкультура – средство избавления советского человека от болезненных явлений прошлого, средство оздоровления нашего общества, непрерывного движения и развития в сторону революционной, социалистической организации человеческих единиц и групп.
<…>
Рассказав нам о буржуазном спорте, Алексей Максимович обратил особое внимание на то, что «культурой мускулов» усердно занимаются во всех буржуазных государствах и там эта «культура мяса идёт в явный ущерб культуре мозга». Советская физическая культура, говорил Горький, должна быть частью всестороннего, гармонического воспитания умного, красивого, жизнедеятельного человека – творца нового социалистического общества[83].
Горький находился в неописуемой радости от парада физкультурников, прошедшего в Москве в 1935 году: «Видя эти десятки тысяч юношей и девушек, стройными рядами идущих к великому будущему, чувствуешь волнение, от которого сердце готово разорваться. Чувствуешь и печаль – оттого, что у тебя нет места в рядах этой могучей армии, что ты уже не в силах идти в ногу со временем и, поравнявшись с мавзолеем, крикнуть искреннее “ура!”»[84].
В случаях Маяковского и Горького мы видим, таким образом, влияние на традиционное равнодушие к спорту (или даже его неприятие), на официально проводимое преклонение перед физической культурой как обязательным элементом будущего. Принимая советскую идеологию, писатели впитывали культ физической культуры или хотя бы усваивали внешнюю лояльность к нему.
На протяжении 1920–1930-х годов отношение к феномену спорта в советском обществе было неоднозначным и противоречивым. Многочисленные дифирамбы, восторженные цитаты, которые с лёгкостью находятся в мемуарной литературе, перемежаются с критическими суждениями в адрес футбола и спорта в целом. В частности, существовало мнение о футболе как об игре, способной вызывать в населении лишь звериные инстинкты. Любопытно, что подобное отношение прослеживалось как до 1917 года, так и после него. В дореволюционное время полиция нередко разгоняла «дикие» команды, собиравшиеся на пустырях, чтобы поиграть в мяч. Так, Н. Е. Соколов, первый вратарь сборной СССР, вспоминал:
Царские власти находили, что популярность футбола в рабочей среде угрожает общественной безопасности, и всячески препятствовали распространению этой игры.
<…>
А без политики футбол действительно не обходился. Под видом тренировок и соревнований нередко собирались революционеры. Совещались, получали задание, беседовали с рабочими. Когда же появлялась вблизи полиция, футболисты начинали усиленно штурмовать ворота, а болельщики поднимали такой шум, что никаких сомнений не могло быть: матч в разгаре[85].
Не менее именитый советский футболист Б. М. Чесноков отмечал: «Играли футболисты на пустырях, причём как только какой-либо из кружков приобретал популярность и на его игры собиралось много зрителей, полиция изгоняла “дикарей” с облюбованного участка»[86].
После 1917 года футбол порой расценивался как контрреволюционное явление, расшатывающее сознание рабочего класса. Такое отношение прослеживается в повести Вересаева «Исанка» в эпизоде спора главного героя Чертова с шахматистом Васькой Шилиным. Чертов при всей своей любви к культу здорового тела отстаивает мнение, что «из культурных способов отвлечения людей от серьёзных умственных запросов два самые верные и незаметные – футбол и шахматы. Футбол – для людей со слабою умственностью: вся кровь уходит в ножные мышцы, и для мозга ничего не остаётся. Шахматы – для людей помозговитее»[87]. Герой повести Вересаева считает, что обе игры «должны бы насаждать в рабочем классе только фашисты, чтобы отучать рабочих думать над серьёзными вопросами»[88].
В связи с вышесказанным неудивительно, что в России переходной эпохи далеко не все единогласно признавали спорт. В его распространении видели опасность для подростков и детей. В глазах многих родителей спорт был «пустой, детской забавой, неприличной “взрослым”»[89], которая мешает ребятам познавать окружающий мир. «Отпрашиваться на футбол у отца мы и не пытались: знали, что за одну только мысль об этом – греховную! – будем наказаны»[90], – вспоминал М. П. Сушков. Один из наиболее прославленных советских футболистов первой половины XX века Г. И. Федотов писал: «Не могу сказать, что родители очень одобряли сначала наше увлечение футболом. Боялись, что оно плохо отразится на учебе. Но когда увидели, что футбол учиться никак не мешает, ребята старательно делают уроки, успеваемость хорошая и жалоб из школы нет, решили нам не мешать»[91].
Годы распространения футбола в России и СССР актуализировали вечную проблему «отцов» и «детей». «Отцы» не желали признавать новое массовое увлечение, а «дети», напротив, делали всё возможное, чтобы убежать на пустырь, построить самодельные ворота, разделиться на команды и начать играть. «Отцы» возмущаются новой игрой, «дети» ею восхищаются. Проблема воззрений поколений на игру в мяч проходит лейтмотивом сквозь многие прозаические тексты. Она присутствует и в главном художественном произведении на тему футбола в советской прозе первой половины XX века, романе Кассиля «Вратарь Республики», где в роли «отца» выступает мама Фрума из общежития рабочих завода Гидраэр:
Двадцать два здоровых вспотевших обормота старательно гонялись друг за дружкой, всячески пакостили друг другу, пихали, валялись, били по очереди ногами мячик, кричали и вообще что есть силы старались умориться. А один этот умник, слава богу, уже пожилой человек, бегал со свистулькой и не давал убивать до смерти (имеется в виду судья матча. – П. Ю.). Что тут было интересного, за что люди платили деньги, мама Фрума решительно не могла понять[92].
Представляется, что «спортивный» извод проблемы «отцов» и «детей» в начале XX века – это культурологический феномен, связанный с более масштабной проблемой столкновения старой и новой культуры на рубеже веков. Популярность футбола в России приходится на переходную эпоху в истории страны. Критика спорта до революции 1917 года вызывалась теми же причинами, что и критика поэтов-футуристов, ниспровергавших в своих манифестах писателей прошлого, устои обывательского быта и общепринятой морали. Не случайно в юмористическом рассказе А. И. Свирского «Коммивояжирующие Заратустры (Злободневная легенда)» (1913) обыгрывается близость слов «футболист» и «футурист»:
Писатели опять переглянулись. Наступило тяжёлое молчание.
– Скажите, пожалуйста, – вдруг обратился к комиссионеру Незеваевский, – футуристы были у вас?
– Кто такие? – переспросил комиссионер и вытянул шею.
– Футуристы?
– Это фокусники, которые большим мячиком играют?
Писатели расхохотались.
– Нет же, то футболисты, а футуристы это – поэты. Они стихи пишут. Но стихи такие, каких ещё никто не слыхал. Понимаете, у них стихи состоят не из слов, а из звуков, и они не читают, а мяукают, каркают, лают[93].
Несколько позднее (в 1920-е годы) общераспространённым клише в советской периодике становится метафора «футбол – болезнь». Авторы газетных и журнальных заметок подчёркивают, что в увлечении футболом сосредоточена огромная сила, потенциал, который необходимо обуздать и использовать на благо общества. По мнению А. А. Акмальдиновой, О. А. Лекманова и М. И. Свердлова, «футбол понимается как “болезнь роста”, эксцесс становящейся юной силы, которую надо должным образом организовать и направить в нужное русло»[94]. Примечательно, что ни высокая вероятность получить травму вследствие грубой игры со стороны соперника, ни перебранки футболистов на поле, ни непригодные поля в своей совокупности – ничто не останавливало людей в их желании поиграть в мяч. Даже в таком спортивном журнале, как «Спартак», который являлся первым популярным массовым журналом физкультуры в СССР и был призван осуществлять спортивную пропаганду, публиковались статьи, где всерьёз говорилось о футболе как о повальной заразе: «Нашей громадной, чрезвычайно нужной работе по физкультуре начинает всерьёз мешать футбольное засорение»[95].
Наравне с серьёзными статьями в периодике появлялись и иронические заметки о футбольной болезни. Вот один из наиболее выразительных подобных текстов на интересующую нас тему, опубликованный в газете «Красный спорт» в рубрике «Вместо фельетона»:
Из многих городов сообщают, что появилась новая странная болезнь. Заболевают главным образом мальчики и юноши. Заболевший не может спокойно видеть лежащий на земле круглый предмет или коробку из-под папирос, спичек и т. п., сейчас же начинает ударами ноги «вести» её перед собой на протяжении многих кварталов, ничего не видя и не слыша кругом. Были уже случаи попадания под автомобиль, трамвай и т. п.
Врачи очень обеспокоены, так как болезнь, по-видимому, заразная и развивается с поражающей быстротой[96].
Интересно, что случай попадания героя-футболиста под транспортное средство отражён в рассказе П. С. Романова «За этим дело не станет» и имеет ассоциативные связи с приведённой выше газетной заметкой. Герой попадает под трамвай и лишается правой руки (никакой круглый предмет он при этом не «ведёт»). Оказавшись в Институте скорой помощи, юноша вступает в диалог с лечащим врачом:
– Руку оторвало, дело простое.
– А, чёрт!.. Какую?
– Как видите, правую, – сказал врач и мигнул своим помощникам, чтобы готовили к операции.
– Вот чертовщина-то… Что ж я без неё буду делать?..
– А вам что, собственно, нужно?
– Как это «что нужно»? Писать, в лагере работать, на строительстве, наконец – футбол. У меня команда.
– Ну что ж, писать в два счёта выучитесь левой рукой, в футбол, как вы сами знаете, руками не играют, а на строительстве за всё будете отдуваться головой. Только всего[97].
54
Токарев С. «Мне кажется, что это выиграл я» // Нагибин Ю. М. Испытание: рассказы. М., 1988. С. 8.
55
Мандельштам О. Э. Шум времени // Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 366.
56
Там же. С. 375.
57
Набоков В. В. Другие берега // Набоков В. В. Собрание сочинений русского периода: в 5 т. Т. 5. СПб., 2000. С. 157.
58
Футбольный клуб «Унитас» (от лат. Unitas – «единство») возник в 1911 году в результате слияния кружков любителей спорта «Удельная» и «Надежда» по инициативе братьев Бутусовых. Базировался в Удельной. Участвовал в первенстве Петербурга с 1911 по 1923 год. Становился победителем Петербургской футбольной лиги в 1912 году, двукратный обладатель Весеннего кубка Петербурга (1912, 1913). В 1913 году «Унитас» провёл на своём поле в Удельном парке международную встречу со сборной Швеции, уступив со счётом 1:5. В 1923 году клуб был реорганизован и переименован. На базе стадиона «Унитаса» в 1940-е годы создали учебно-спортивный комплекс «Спартак», который существует и по сей день (см. подробно о клубе: Лукосяк Ю. П. История петербургского футбола. СПб., 2011).
59
Бианки был игроком группы атаки. Из шести сезонов, сыгранных за разные клубы, Бианки провёл два на позиции правого крайнего нападающего, четыре – на позиции левого крайнего нападающего.
60
Из шести братьев наиболее прославились двое – Михаил и Василий. Последний был первым капитаном сборной России по футболу на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году и забил единственный гол национальной команды на том турнире в игре против сборной Финляндии.
61
Ливеровский А. А. Лебяженец Бианки // Ливеровский А. А. Охотничье братство. Л., 1990. С. 14.
62
Зощенко М. М. Перед восходом солнца // Зощенко М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. М., 2008. С. 29–30.
63
Куляпин А. И., Скубач О. А. О сухих вратарях с подмоченной репутацией // Куляпин А. И., Скубач О. А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи. С. 186.
64
Пантелеев А. И. Республика ШКИД (в соавторстве с Г. Г. Белых) // Пантелеев А. И. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. Л., 1984. С. 187.
65
Олеша Ю. К. Книга прощания. М., 2015. С. 299–301.
66
Катаев В. П. Алмазный мой венец // Катаев В. П. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. М., 1984. С. 9–10.
67
Бондарин С. А. Встречи со сверстником // Бондарин С. А. На берегах и в море. М., 1981. С. 444.
68
«Спортинг-клуб» – спортивный футбольный клуб, основанный в 1911 году. Один из основателей Одесской футбольной лиги, двукратный чемпион Одессы (сезоны 1913/14, 1915/16). Расформирован в 1920 году.
69
Олеша Ю. К. Книга прощания. С. 299.
70
Земская Е. А. Из семейного архива // Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 52.
71
Там же. С. 57.
72
Например, любовь к конным скачкам. Московский ипподром становился местом встреч Старостина и писателей. См. об этом подробнее: Старостин А. П. Встречи на футбольной орбите. М., 1980. С. 46.
73
Там же. С. 145.
74
Олеша Ю. К. Книга прощания. С. 167.
75
Старостин А. П. Встречи на футбольной орбите. С. 57.
76
Старостин А. П. Встречи на футбольной орбите. С. 56.
77
Акмальдинова А. А., Лекманов О. А., Свердлов М. И. Указ. соч. С. 92.
78
Там же. С. 94.
79
Пример экспликации негативного отношения к футболу в прозе 1930-х годов, коррелирующий с отношением к игре в стихотворениях Маяковского, находим в тринадцатой главе романа К. К. Вагинова «Гарпагониана», в которой незнакомец в разговоре с одним из главных героев произведения, систематизатором Анфертьевым, с ностальгией вспоминая о былых временах, говорит: «А теперь всё футбол, бокс – мерзость одна, даже настоящей французской борьбы нет» (Вагинов К. К. Гарпагониана. Вставки для второй, неоконченной редакции // Вагинов К. К. Полное собрание сочинений в прозе. СПб., 1999. С. 492).
80
Акмальдинова А. А., Лекманов О. А., Свердлов М. И. Указ. соч. С. 96.
81
Маяковский В. В. Товарищи, поспорьте о красном спорте! («Подымая гири и гантели…») // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 9. М., 1958. С. 176.
82
Акмальдинова А. А., Лекманов О. А., Свердлов М. И. Указ. соч. С. 99.
83
Рябчиков Е. «Динамо» – это сила в движении // Мы из «Динамо». М., 1968. С. 10.
84
Горький М. [О параде физкультурников] // Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 27. М., 1953. С. 451.
85
Соколов Н. Е. Первый вратарь сборной. М., 1968. С. 12.
86
Чесноков Б. М. От борьбы «дикарей» с «аристократами» к олимпийским победам // Спортивная жизнь России. 1960. № 12. С. 18. Сам Чесноков, выступая в составе Рогожского кружка спорта, был вынужден за четыре года сменить шесть игровых площадок.
87
Вересаев В. В. Исанка // Вересаев В. В. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. С. 200–201.
88
Там же. С. 200.
89
Спорт во все времена года. С. 4.
90
Сушков М. П. Футбольный театр. С. 8.
91
Федотов Г. И. Записки футболиста. М., 1959. С. 13.
92
Кассиль Л. А. Вратарь Республики // Кассиль Л. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М., 2009. С. 179.
93
Цит. по: Акмальдинова А. А., Лекманов О. А., Свердлов М. И. Указ. соч. С. 21–22.
94
Там же. С. 47.
95
Андрей. О футбольной «детской болезни» // Спартак. 1925. № 18. С. 8.
96
[Неизвестный автор]. Новая болезнь // Красный спорт. 1924. № 5. 17 авг. С. 3.
97
Романов П. С. За этим дело не станет // Романов П. С. Избранные произведения. М., 1988. С. 368.