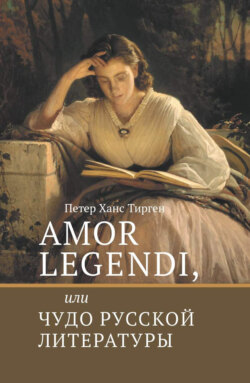Читать книгу Amor legendi, или Чудо русской литературы - Петер Ханс Тирген - Страница 4
Часть I. История русской литературы
Стихотворная эпопея М.М. Хераскова «Россияда» – русская «Энеида» или бастард псевдоклассицизма?
ОглавлениеДаже так называемый образованный гражданин, более или менее начитанный, вряд ли много знает о влиянии римско-латинской традиции на русскую культуру. Разумеется, православная империя была связана более с греко-византийским, нежели с латинским культурным ареалом. Соответственно, русская история знала периоды, когда эпитет «латинствующие» имел обличительный смысл в отношении любого генетически римского, т. е. римско-католического, культурного явления и вообще латыни. Тем не менее определенный латинский субстрат в русской культуре присутствует – об этом свидетельствуют этимологические словари или специальные справочные издания недавнего времени, такие, например, как «Латинское наследие в русском языке»[40]. И если Пушкин в романе «Евгений Онегин» заметил, что «Латынь из моды вышла ныне» (гл. I, стрф. 6), это должно означать нечто прямо противоположное – а именно то, что латинский язык был некогда обязательным предметом общеобразовательной программы.
В восточнославянском культурном ареале латынь приобрела статус языка науки и просвещения по меньшей мере начиная с эпохи барокко и классицизма. В основанных тогда новых академиях и университетах (Московский университет был открыт в 1755 г.) лекции зачастую читались на латыни еще и по той причине, что многие профессора были выходцами из Западной Европы. И хотя православие больше тяготело к грекофилии, оно не могло воспрепятствовать растущему интересу к латыни, римским писателям, латинским Отцам Церкви, а также средневековым и относящимся к Новому времени латинским трактатам, даже невзирая на неоднократное индексирование[41] подобных трудов – вплоть до 1917 г. количество русских переводчиков с латинского языка неуклонно возрастало, и повлекший за собой тяжелые культурные последствия «обвал» русской классической филологии (т. е. науки об Античности) случился только после Октябрьской революции[42].
О том, что Roma aeterna, Вечный Рим, проник в Россию пусть даже окольным путем через Константинополь, свидетельствуют формула и соответствующая ей идеологема «Москва – третий Рим» (начало XVI в.). Позже возник вариант этой формулы: «Москва – второй Рим». Восточнославянские авторы, например Феофан Прокопович, писали свои научные труды на латыни и называли их «De arte poetica» или «De arte rhetorica». Русское пристрастие к скабрезной соленой шутке породило своего рода поэтическую «порнократию», излюбленным чтением и источником поэтического вдохновения которой были римско-латинские erotica et obscena – эта традиция тянется от Ивана Баркова до национального русского поэта Александра Пушкина: все они следовали девизу naturalia non turpia («что естественно, то не безобразно»). Довольно часто они пользовались французскими подражаниями или переводами-посредниками. Ни в царской России, ни в Советском Союзе такого рода тексты не могли быть опубликованы без цензурных изъятий. Только начиная с эпохи перестройки закончилось время editiones castratae (оскопленных изданий). Было бы очень полезно посвятить специальное свободное от табуированных тем исследование «подпольной» русской рецепции Тибулла, Катулла, Овидия, Марциала, Ювенала и проч.
Тем не менее высокая профессиональная литература должна была получить свое по праву. Литературе Древней Руси, стесненной византийским каноном, были чужды основные роды литературы: эпос, драма и лирика. Их место занимали господствующие жанры светской и духовной утилитарной словесности (литургические тексты, жития святых, летописи, писания Отцов Церкви, уложения, статейные списки и т. д.). Только начиная с конца XVII в. и далее в XVIII в., подобно прорвавшему плотину неудержимому потоку, в русскую литературу хлынули традиционные высокие жанры: героическая (стихотворная) эпопея, трагедия, высокая лирика и прозаический панегирик («похвальное слово»). Русские писатели XVIII в. не знали лучшей похвалы (или формы самовосхваления) чем «второй Гомер», «русский Вергилий», «московский Гораций» или «северный Расин». Сравнительные формулы и primus-inventor-topoi (топика первенства) были в России столь же распространены[43]. Imitatio и aemulatio (подражание и соревнование) – это основополагающие установки русского классицизма. Западные и, прежде всего, античные образцы жанров пересаживались на русскую почву, адаптировались и наполнялись национальными реалиями (русские исторические события, русские персонажи и герои, русское место действия и национальный колорит).
Русские критики более позднего времени – такие как Виссарион Белинский – категорически отвергли эту сознательную ориентацию на преемственность, заклеймив ее как «пересадку» или «прививку», что в принципе равнозначно представлению о своего рода «татуировке». Еще в 1820-х годах выдающиеся русские писатели утверждали, что результатом перманентного подражания чужеземным образцам Россия не создала ни оригинальной литературы, ни самостоятельной литературной критики и не выработала ни собственного литературного языка, ни автохтонной системы философских понятий[44]. Сам Пушкин сетовал на то, что «у нас нет литературы» и что «метафизического языка у нас вовсе не существует»[45]. Тем не менее, хотя сам Пушкин может – и даже должен – быть лучшим опровержением этой ламентации, она все же не совсем несправедлива, даже при том, что рядом с Пушкиным были такие великие писатели как Карамзин, Гоголь, Лермонтов и Чаадаев.
Это положение вещей, вызвавшее в 1830-х годах жесткую самокритику, в XVIII в., как уже было замечено, служило, напротив, поводом к самовосхвалению. Следование античным образцам в форме рецепции «образцов», т. е. шедевров греческой и латинской литературы, было вожделенным идеалом, осуществление которого должно было поставить русскую литературу на уровень западноевропейских в том, что касалось их эстетической нормы и репутации. Мастера литературной теории – такие как Гораций и Буало – буквально обожествлялись; их сконцентрированные не на авторской личности, а на приемах ремесла трактаты о поэтическом искусстве переводились и заучивались наизусть, а предложенные в них правила свято соблюдались в литературной практике. Представление о поэтическом творчестве опиралось не на концепты оригинальности и гениальности, но на концепты механистического восприятия и воспроизведения, поэт мыслился обучаемым и изучаемым. Многие русские писатели верили в то, что подражание – это надежный входной билет, обеспечивающий его обладателю право стать звеном непрерывной цепи translatio artium (преемственности искусства) и тем самым подняться до уровня поэта. Наивная вера в то, что стихотворству можно научиться, а поэзию – изучить, вернулась к русским во времена социалистического реализма, в практике «литературных мастерских», претендовавших на плановое производство поэтов. Советский писатель должен был быть «инженером душ» и «техником духа». Литературное творчество рассматривалось как ремесло, промышленное производство и выполнение социального заказа. Девиз Владимира Маяковского гласил: «поэзия – производство». Согласно его убеждению, стихи расчетливо изготовляются, а вовсе не внушаются свыше (ср. название его статьи «Как делать стихи?», 1926). Столь рационалистичное представление о поэзии недалеко ушло от поэтологически-педагогических мнений XVIII в.
Одной из наиболее престижных и в то же время мучительных проблем русской литературы Нового времени было создание национального героического эпоса. Литература, в которой отсутствует национальная эпическая поэма, испытывает, по распространенному в те времена убеждению, мощный репутационный дефицит. У греков были «Илиада» и «Одиссея», у римлян – «Энеида», у итальянцев были Данте, Тассо и Ариосто, у французов – «Генриада» Вольтера, у португальцев – «Лузиады» Камоэнса (1524–1580), у немцев – «Мессиада» Клопштока, у англичан – «Потерянный рай» и «Обретенный рай» Мильтона, и только русские – таково было всеобщее причитание – оставались без собственного эпоса. При этом роман не мог служить заместителем эпической поэмы: чтение романов, как это было объявлено Сумароковым, – не «препровождение времени; оно погубление времени»[46].
Таким образом, создание героической эпопеи было величайшей задачей, которую поставил перед собой русский классицизм. Однако на этом пути многие писатели потерпели творческое крушение. Некоторым удалось написать по нескольку стихов (Сумароков, Майков), другим – по одной-две «песни» (Кантемир, Ломоносов). Это было полной противоположностью эпической непрерывной песне, carmen perpetuum[47]. В основу сюжета всех подобных опытов полагались главные события русской истории, в которых принимали участие ключевые персонажи истории: Дмитрий Донской (XIV в., борьба с татаро-монголами), Михаил Романов (XVII в., борьба с польской интервенцией) или Петр Великий (1689–1725, русско-шведские войны). В основе всех сюжетов было становление и самоутверждение Российской империи и прославление ее величия. К этому следует добавить заклинательного свойства декларации на тему функции России как antemurale christianitatis (оплота христианства) и защитницы православной веры.
Наряду с названными выше эпическими фрагментами заслуживает отдельного упоминания предпринятый поэтом Василием Тредиаковским стихотворный перевод романа Франсуа Фенелона «Странствия Телемака» («Les Aventures de Télémaque», 1699), выполненный гекзаметрами и содержащий ровным счетом 16 тыс. стихов в 24 песнях. Как автор этого до сих пор единственного в своем роде переводного опыта Тредиаковский стяжал славу «отца русского гекзаметра»[48].
От травматического переживания литературы без собственной эпопеи Россию избавил Михаил Матвеевич Херасков, один из главных представителей русского классицизма. Эрудированный и сведущий в иностранных языках, этот poeta doctus (ученый поэт) долгие годы был куратором основанного в 1755 г. Московского университета; он был также издателем нескольких журналов, интендантом московских театров, масоном, поборником просвещения и меценатом. Он творил во всех обычных для того времени, а также и во вновь появляющихся жанрах, в диапазоне от торжественной и анакреонтической оды до дидактической поэмы, слезной драмы и романа. Между 1796 и 1803 гг. вышло в свет собрание его сочинений в 12 томах – одно из самых объемных по тем временам изданий. Его писательское credo предполагало равноправное воспевание «героев и безделок». В первом аспекте он наследовал традицию высоких жанров эпопеи и трагедии, образцом для второго послужили латинские nugae (шутливая поэзия, бессмыслица) и новейшие легкие жанры поэзии рококо. Однако эта попытка совмещения antiqui и moderni – эстетических установок «древних» и «новых», отнюдь не стала гарантией прочной славы. Уже в XIX в. Херасков прослыл устаревшим «патриархом старых времен». С мировым значением творчества Гоголя, Пушкина или гигантов русской романистики Толстого и Достоевского значение херасковского наследия несоизмеримо.
Еще до того, как Херасков в 1779 г. опубликовал «Россияду», он был известен как автор нескольких небольших эпических поэм[49]. В их поэтике ощутима ориентация не только на античные образцы, но и на образцовые тексты новейших поэтов – Буало, Виланда и Клода-Жозефа Дора. Наиболее значительной из ранних поэм Хераскова является написанная александрийским стихом поэма «Чесменский бой» (1771) в пяти песнях (1350 стихов), посвященная победе русского флота над турками в Чесменской бухте Эгейского моря. Первая песня начинается традиционной формулой канонического эпического «предложения»: «Пою…», за которой следуют столь же традиционные эпические топосы «посвящения» и «призывания музы». Русские герои наследуют героизм гомеровских воинов. На их стороне боги Минерва, Марс, Нептун и христианские Ангелы-хранители, тогда как на стороне турок – Фурии и Смерть. Победа русских в финале, хоть и представлена как грандиозная, однако прославлена без излишней воинственности, поскольку с панегириком сопряжено явно выраженное стремление к миру и новому «Золотому веку». Пацифистское сострадание преобладает над воинственным пылом. «Чувствительность сердца» важнее «кровавой войны» и «кипящей крови» даже в том случае, когда врагами являются «сарацины» и «Мекка», а русским «сынам Отечества» подобают самые возвышенные дифирамбы[50]. Свидетельства влияния сентиментализма, неогуманистических и масонских идеалов на Хераскова поистине неисчислимы.
Подготовленный таким образом Херасков предпринял свой огромный труд по созданию классической русской эпопеи. Через восемь лет после того, как он начал «ковать стихи», труд был завершен. В 1779 г. увидели свет 12 песен (около 9 тыс. александрин). Начиная с этого момента Херасков прослыл «русским Гомером» и «российским Вергилием». Его произведение сразу же чуть было не стало достоянием немецкоязычной культуры: не кто иной как Я.М.Р. Ленц, известный поэт «Sturm und Drang» (движения «Бури и натиска»), с 1781 г. живший в России, relata refero[51] возымел намерение перевести поэму Хераскова – перевод должен был публиковаться в «Немецком музее» («Deutsches Museum») Г.Х. Бойе, однако текст этого перевода затерялся[52]. Тем не менее кажущаяся несчастной судьба духовного подвига Ленца не исключает и того, что его перевод вообще остался лишь замыслом или фрагментом: возможно, архивная находка из числа изредка случающихся чудес помогла бы прояснить этот вопрос.
За 20 лет до «Россияды» появился трактат Эдварда Юнга об оригинальном творчестве (Conjectures on Original Composition, 1759; Мысли Юнга об оригинальном сочинении / пер. с фр. И.А. Грацианского. СПб.: Императорская типография, 1812), в котором свободная интуиция была противопоставлена и предпочтена доктринерской литературной учености. Эта корректировка приоритетов вскоре стала известна и в России, поскольку трактат Юнга был переведен на французский и немецкий языки. Поэтому Херасков со своим опытом эпического стихотворчества изначально оказался между двух стульев: ветшающего завета подражания высоким образцам и подступающего нового завета оригинальности творчества. Это противоречие создало серьезную проблему еще и потому, что оно имплицитно подразумевало неизбежный конфликт: стихи versus проза, диктат сюжета versus доминанта авторской личности, рационализм versus чувствительность, прошедшее versus современность, равно как и конфликт многих других полярных понятий. В качестве решения этой дилеммы предлагалась попытка остаться верным обоим комплексам требований. Именно этот путь конвергенции или синтеза избрал Херасков. И заплатил за него столь же высокую, сколь и типичную для того времени цену.
Для начала бросим взгляд на подражательный аспект поэтики «Россияды». Уже первому изданию поэмы 1779 г. Херасков предпослал предисловие, названное им «историческим», где он провозгласил свое право первооткрывателя (primus inventor), т. е. подчеркнул тот факт, что он был создателем первой русской героической эпопеи и акцентировал необходимость следования определенным «правилам» этого рода творчества. Классицистический тип мышления, заключенный в клетку «правил», был для него само собой разумеющимся. При этом к явной пользе Хераскова как эпического стихотворца было то, что он владел латынью, французским и немецким языками почти в совершенстве, а древнегреческим, итальянским и английским – по меньшей мере удовлетворительно. Языковые компетенции такого рода для приверженца эстетики подражания были просто необходимы. Позднее злые языки утверждали, что некоторые критики теории «подражания» и «соревнования» лишь потому так рьяно боролись с эпигонством, что сами не владели иностранными языками.
Ориентация Хераскова на эпический канон была вторично подтверждена в предисловии к третьему изданию «Россияды» в 1796 г. Новое введение имело заголовок «Взгляд на эпические поэмы». В Новое время подобные введения были непременным признаком жанра (здесь уместна отсылка к Вольтеру), поскольку героическая эпопея как жанр требовала все более веских аргументов в свою защиту и оправдание. Херасков перечисляет все без исключения произведения эпических стихотворцев, которые он счел достойными образцами: Гомер, Вергилий, Лукан, Тассо, Камоэнс, Вольтер и Мильтон. Под конец упомянут русский коллега Хераскова – Ломоносов. В списке отсутствуют Овидий, Данте, Ариосто и Клопшток – эти четверо или не принадлежали вообще к разряду поэтов, входящих в высокий эпический канон, или еще не успели в него войти (впоследствии это вызвало некоторое раздражение, прежде всего, в связи с Данте).
Исследователь, не убоявшийся труда стих за стихом просмотреть все тексты вышеназванных эпических поэтов в оригиналах и во французких переводах-посредниках (что совершенно необходимо в случае с произведением русской литературы), убедится, что «Россияда» Хераскова являет собой изобильный склад сюжетных, мотивных, образных, композиционных и тематических параллелей с поэмами предшествующих поэтов-эпиков. Как я это показал в моей докторской диссертации 1970 г., в данном случае можно говорить о конкретном генетическом родстве. Традиционный и само собой разумеющийся инвентарий поэмы Хераскова составляют такие типично эпические топосы как перечень героев и каталог народов, аристократизм и поединки героев, пророчества, видения и чудеса, книга судеб, историческое прозрение в будущее, мифологические сравнения, божества и аллегории, подобные «Раздору» или «Безбожию», призывание Музы, заклинания и проклятия, воспевание блаженства (makarismós[53]), описание щита, тейхоскопия[54], змеиные метафоры для обозначения бедствий, описания подземного (адского) мира (катабасис), зачарованные леса, райские видения, триумфальное плавание, амазонки и девы-воительницы – и т. д., и т. п.
К этому можно добавить перенос целых сюжетных эпизодов из поэм-образцов, а также использование характерных для них схем развития действия и дегрессивной ретардации повествования. Этого программного эпигонства не могут скрыть даже русские и татарские имена персонажей, которые играют роль своего рода псевдорусской лакировки фасада.
Само собой разумеется, что и тематические акценты соответствуют традиции великого героического эпоса. Пока русские-христиане завоевывают мусульманско-языческую Казань (в реальной истории это произошло в 1552 г., в период правления Ивана Грозного), автор информирует читателя об историко-политических и религиозных законах России. Речь идет о государстве и креативных государственных мифах (ср. устойчивый латинский оборот, относящийся к принципам летосчисления: «ab Urbe condita»[55]), о возвышении авторитета царя-миротворца и о высоких духовных притязаниях превосходящей культуры, основанной на синтезе гуманизма и христианства. В связи с этим к России совершенно закономерно применимы знаменитые стихи VI песни «Энеиды», где Вергилий замечает:
Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных![56]
Именно эти стихи Вергилия, желая подчеркнуть роль России как новой всемирной империи, неоднократно цитировали такие русские авторы, как Ломоносов, Федор Тютчев или Белинский. «Россияда» Хераскова очевидно подготовила эту идею translatio imperii (в смысловой объем которой естественно входит и translatio religionis et artium). В русско-украинской священной истории не только Киев в качестве Нового Иерусалима и Москва в качестве Третьего Рима должны были обрести свой высокий статус: образ покоренной Казани в «Россияде» объединяет в своем смысловом ореоле оба переносимых на русскую почву образца в удвоенной сакрально-секулярной эмфазе учреждения государства и завершенности его становления.
Так же, как это происходит в поэмах Гомера, Вергилия, Тассо или Мильтона, русский эпический герой должен сражаться не только с внешними, но и с внутренними врагами. Он вынужден противостоять искушениям и сражаться с пороками, так что внешняя линия действия (военный поход) постоянно сопровождается интроспекцией духовного паломничества, которое дает герою возможность истинной инициации. Именно для этого Херасков употребляет применительно к Иоанну Грозному как к нравственно возродившемуся главному герою поэмы весьма значимый эпитет «новый человек»: «стал новый человек» (до сих пор это ускользало от внимания всех исследователей проблемы «нового человека»). Таким образом, «Россияда», подобно многим героическим эпопеям, реализует в своей структуре синтетическую модель двойного сюжетного развертывания: горизонтально-географическая сюжетная линия завоевания сопровождается вертикально-духовной линией нравственной эволюции героя.
Наконец, установка Хераскова на следование традиции очевидна и в композиционной структуре его 12-песенной поэмы, которая соответствует шестеричной или двенадцатеричной системе композиции классического эпоса и эпоса Нового времени. Начиная с античных времен героические эпопеи состоят из 6, 12, 24 или 48 песен. Херасков ориентируется, прежде всего, на 12-песенную структуру «Энеиды», воспроизводя даже такую особенность архитектоники вергилиевой поэмы как комбинация двух- и трехчастного членения и ассоциативная перекличка определенных песен. Да и сама «Энеида» для Хераскова – «несравненная», т. е. абсолютно непревзойденный по своему совершенству образец (предисловие «Взгляд на эпические поэмы»).
Теперь несколько слов об эстетической установке Хераскова на подражание образцам. После его смерти в 1807 г. эта установка вызвала острую критику вплоть до полного отрицания достоинств поэмы: якобы в «Россияде» нет ничего русского, это просто хаотически-подражательная трансплантация с безусловно вспомогательными – и ни в коем случае не творческими – композиционными добавками, не имеющими интегративного значения, всякие же претензии этого текста на то, чтобы называться литературой, исключены полностью устаревшей концепцией жанра. В сущности, этот суровый приговор актуален и сегодня, и если тезис slavica non leguntur[57] и применим к какому-либо тексту, то именно к «Россияде», песни о России[58].
Если в России XVIII столетия подражание ни в коем случае не порицалось, то это было не в последнюю очередь связано с отсутствием понятия «плагиат». Оно появилось не раньше, чем были постигнуты автономность и уникальность индивидуальной человеческой личности. В свою очередь, возможность такого взгляда на индивидуума была обеспечена идеалами зрелого Просвещения, осознанием прав человека (в отличие от божественного права), отрицанием априорного знания в сенсуалистской приверженности к эмпирическому опыту, а также распространением культа субъективной чувствительности и духовности – все эти явления духовной жизни оттеснили классицистический рационализм с его толерантностью к подражанию. Более раннее рационалистическое представление Сумарокова и Хераскова о том, что так называемое очищение разума может способствовать очищению стиля и далее очищению нравов, уступило место осознанию сложной природы неоднозначной эмоции и идеологемам самосовершенствования и воспитания сердца.
Соответственно, и русские литературно-теоретические и поэтико-дидактические тексты к концу XVIII в. перестали называться по литературоцентричному образцу «De arte poetica»; они получали антропоцентричное заглавие «Что нужно автору?» (Карамзин) или «Поэт» (как позже, в 1805 г. назвал свою «эпистолу», или дидактическое стихотворение, сам Херасков). В этом последнем, при том что в нем, как и прежде, Херасков остается верен законодателям классицизма Горацию – Буало – Сумарокову, он все же с равным энтузиазмом подчеркивает, что для создания истинной поэзии необходимы воображение, богатство вымысла и вдохновение. Если еще Сумароков призывал «Последуем таким писателям великим» («Эпистола II. О стихотворстве», 1747), то Херасков возражает ему в 1805 г.: «Другим последовать есть только подражанье»[59]. Как следствие этого процесса переосмысления природы литературного творчества в категориальном аппарате русской литературной критики около 1800-х годов начал свое победное шествие эпитет «неподражаемый», и на первый план выдвинулась семиосфера понятия «[индивидуальный] вкус». Поэт Константин Батюшков вскоре заговорит об «олтаре вкуса». Понятие «вкус» станет в России той самой категорией, которая, обеспечивая способность к эстетическому суждению, органично соединяет в себе рассудочный рационализм и эмоциональную впечатлительность гения. Идеологически и технократически ориентированные поэты типа Маяковского впоследствии будут бороться против «беспринципности» индивидуального вкуса. К сожалению, насколько мне известно, мы не располагаем более подробным исследованием, посвященным истории понятия «вкус»; исключением является статья 1980 г., принадлежащая Хансу Роте[60]. Дискуссия о вкусе, поднимающая проблемы спонтанности, антинормативности и дорефлексивности творчества, непосредственно зависит от интенсивности распространения культа чувствительности в Европе.
Русский сентиментализм обычно и совершенно справедливо связывается с именем Н.М. Карамзина. Напротив, спорным является вопрос о том, начиная с какого времени мы можем говорить о сентиментализме как об очевидном литературном направлении русской культуры. Наиболее ранние датировки относят начало русского сентиментализма к периоду 1760–1775 гг. При этом называют и имя Хераскова с уточняющей отсылкой к его ранним издательским инициативам, ранней лирике и «слезным драмам» 1774–1775 гг. («Друг несчастных», «Гонимые»). Но обращение к эпической поэзии Хераскова в этом смысле будет гораздо более содержательным. Почему своеобразие метода Хераскова-эпика до сих пор (и с далеко идущими последствиями) остается неизученным – поистине непостижимо[61]. Наиболее простое объяснение заключается в том, что наличие признаков сентименталистской поэтики по умолчанию не предполагается в самом престижном жанре классицизма – высокой героической эпопее. Однако это предубеждение является ложным. Если мы хотим увидеть определенное своеобразие «Россияды» в рамках эклектико-подражательной жанровой традиции эпопеи, мы должны выявить ее вклад в развитие русского сентиментализма – только на этом пути можно доказать оригинальность поэмы Хераскова. Это дает понять и сам Херасков, который оперирует в высшей степени эмфатически насыщенной лексикой и образностью в уже упоминавшемся втором предисловии к изданию 1796 г.
Эти сентименталистские установки очевидны даже в первой редакции «Россияды» 1770-х годов. Уже здесь сосредоточены характерные для основной фазы русского сентиментализма семантические поля, мотивы, образы героев и сюжетные ходы. Постоянно повторяются мотивы дружбы, мук прощания и расставания, любовных мук, ужасов и страданий войны, темы вдовства и сиротства, панегирики состраданию и любви к ближним, мотивы могилы, руин и кладбища, эскизно набросанные образы чувствительных героев и многое другое. При этом мотивы несчастья и скорби не самоценны: они служат не только суггестивным способом воплощения страдания как эмоционального потрясения, но и индикатором способности чувствительного человека к скорби, которая может эстетически облагородить и морально возвысить его в акте сопереживания. Речь идет не о тяжелейшем аффекте вгоняющего в дрожь ужаса или катартической шокотерапии, не о душераздирающих катастрофах, но о скорби как о сдержанной болеутоляющей реакции, которая для сердца может быть даже целительной. Катастрофическое начало (страх и ужас) обречено редукции, сострадание и самосовершенствование, напротив, усиливаются и становятся более утонченными (древнегреческая оппозиция «фобос», «страх» versus «элеос», «сострадание»). Насколько интенсивным в этом процессе эстетического перелома русской словесности было участие гуманных идеалов масонства и пиетистского учения о благочестии, должно еще стать предметом специального исследования. В любом случае, «сладостная скорбь», нравоучительная теория очищения и постулат «познай самого себя» не слишком отдалены друг от друга.
До сих пор неосознанным осталось нечто другое. В 1790-х годах, кульминационной эпохе русского сентиментализма, вышли в свет первые три издания кантовской «Критики способности суждения». В трактате Канта содержатся поистине сокрушительные замечания о феномене «трогательности». Вкус, если только к нему примешиваются очарование и трогательность, по Канту, является «варварским». Как замечает Кант: «Трогательность – ощущение, в котором приятное достигается лишь посредством мгновенной задержки и следующим за ней более сильным излиянием жизненной силы, вообще не имеет никакого отношения к красоте»[62]. Следовательно, в то самое время, когда русские писатели, интенсивно культивировавшие сентиментализм даже в жанре героической эпопеи, полагали себя находящимися на магистральном пути в Европу, опорные пункты их новых литературных убеждений в этой самой Европе были уже опровергнуты. И до сих пор эти кантовские импликации не были замечены – Кант должен был быть для Хераскова полным инкогнито.
Предпринятая Херасковым гибридизация жанра эпопеи не является результатом примеси исключительно сентименталистских ингредиентов. В 5-й и 10-й песнях «Россияды» можно найти обширные пассажи, отличающиеся интенсивным использованием лексики и мотивов искусства рококо. Здесь на фоне идиллического ландшафта лугов и рощ резвятся Грации и Гении, Купидон и аморетти, Наяды и Зефиры, порхают Забавы, Приятности и Прелести: при этом античные номинативы олимпийских и местных богов, как это очевидно, перемежаются русифицированными номинациями аллегорических фигур. Напевы пастушеской свирели периодически заглушают гром военной трубы, и на первый план выступает приукрашивающая манера описания с использованием диминутивных форм. «Героический» эпос превращается в легкую поэзию[63]. Разумеется, это «рокайлизация» касается только поверхностных элементов стиля. Стратегию нарратива и концепцию персонажей-героев в основном определяет гибридная классицистически-сентименталистская эстетика.
4 октября 1994 г. в литературном приложении к газете “Frankfurter Allgemeine Zeitung” появилась следующая заметка: «После двухтысячелетней, исполненной славы истории в XVIII столетии на смертное ложе возлег брадатый старец: европейский героический эпос. Он покинул здешний мир незамеченным и не оплаканным; слушатели, некогда благоговейно внимавшие торжественной декламации стихов достойного старца, давно превратились в рассеянных и ненасытных читателей романов. Здесь, в безмолвствующих буквенных сугробах прозы ныне буйствует жизнь, которой жаждут потребители нового искусства» (Густав Зайбт).
Это умозаключение актуально и для России. Героический эпос, к середине XVIII столетия крайне запоздалый жанр, не мог появиться здесь в своем чистом виде: он был обречен участи бастарда, незаконного детища, порожденного альянсом классицизма, сентиментализма и рококо. Чистый жанр уступил место гибриду; старая породистая собака отступила перед похожей на лоскутный коврик дворняжкой. Известное определение, данное Пушкину Томасом Манном – «славянский латинянин»[64] по классической ясности его литературных установок – ни в коей мере не может быть применено к «Россияде», несмотря на всю ее преемственность по отношению к «Энеиде». Сентименталистские вкрапления в эпический нарратив у Хераскова ничего общего не имеют с высокой скорбью у Вергилия: «sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt» («Слезы – в природе вещей, повсюду трогает души // Смертных удел»)[65]. «Трогательность» сентименталистов далеко уступает «mortalia tangunt» Вергилия. Да и рококоподобный привой к эпическому древу тоже неспособен служить заместителем аркадской буколически-георгианской веселости.
«Того, кто опаздывает, наказывает жизнь»[66]. Бедного Хераскова совершенно справедливо настигла злая участь обреченного на забвение писателя. Его надежды на non omnis moriar («Нет, весь я не умру») не сбылись. В русской литературе XIX в. «Россияда» была одним из тех текстов, чтение которых маркирует безнадежную отсталость далекого от подлинной образованности читателя (ср., например, гончаровского Обломова). Способны ли poetae docti немецкоязычной культуры – такие как В.Г. Себальд или Дурс Грюнбайн – возродить большую форму стихотворного эпоса, остается только ждать. И в современной России на такую возможность совершенно ничто не указывает.
40
Воронков А.И., Поняева Л.П., Попова Л.М. Латинское наследие в русском языке. Словарь-справочник. М., 2002. См. также изданный в 2007 г. новый этимологический словарь РАН: Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. Вып 1. М., 2007. Ср. соответствующее издание для немецкоязычной среды: Wolff F., Wittstock O. Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. Lehn- und Fremdwörter. 6., neubearb. Aufl. Wiesbaden, 1999. См. также: Многоязычный словарь латинских выражений / под ред. Д. Пуччо. М.; Рим, 2014.
41
Здесь: производное от «Индекса запрещенных книг» (лат. Index Librorum Prohibitorum) – список публикаций, которые были запрещены к чтению римско-католической церковью под угрозой отлучения. Некоторые издания «Индекса» содержали также указания Церкви по поводу чтения, продажи и цензуры книг. Официальной целью составления «Индекса» было ограждение веры и нравственности от богословских ошибок и посягательств на христианские догматы. – Примеч. пер.
42
Фролов Е.Д. Русская наука об античности. СПб., 1999. О восприятии античности в России см. также: Античное наследие в культуре России / под ред. Г.С. Кнабе. М., 1996; Кнабе Г.С. Русская античность. М., 1999; Wes M.A. Classics in Russia 1700–1855. Leiden; New York; Köln, 1992; Okenfuss M.J. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia. Leiden; New York; Köln, 1995.
43
См. об этом: Thiergen P. Translationsdenken und Imitationsformeln. Zum Selbstverständnis der russischen Literatur des XVIII. und XIX. Jahrhunderts // Arcadia. Zeitschrift für Vergleichende. Literaturwissenschaft. 1978. Nr. 13. S. 24–39. См. также: Thiergen P. Die Schildbeschreibung in Cheraskovs «Rossijada» // Arcadia. Zs. f. vergl. Literaturwiss. 1972. Nr. 7. S. 200–215; Thiergen P. Imitation, Elaboration, Inspiration. Zum Problem der «literarischen Werkstatt» am Beispiel der russischen Literatur // Rusistika, Slavistika, Lingvistika. FS für Werner Lehfeldt / Hg. S. Kempgen et al. München, 2003. S. 362–377.
44
Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hg. P. Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 2006. S. XX и след.
45
Пушкин A.C. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937–1949. Т. XI. C. 89 («О журнальной критике»); с. 21 («О причинах, замедливших ход нашей словесности»).
46
Сумароков А.П. Стихотворения. Л., 1935. С. 377. См. также: Der russische Roman / Hg. B. Zelinsky. Köln; Weimar; Wien, 2007. S. 1.
47
Овидий Назон Публий. Метаморфозы / пер. с лат. С.В. Шервинского. М.: Художественная литература, 1977. С. 31. Ср.:
In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen!
[Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы
Новые. Боги, – ведь вы превращения эти вершили, –
Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной
До наступивших времен непрерывную песнь доведите].
Курсив в цитате мой. – Примеч. пер.
48
Burgi R. A History of the Russian Hexameter. Hamden; Connecticut, 1954. P. 41.
49
Thiergen P. Studien zu M.M. Cheraskovs Versepos «Rossijada». Bonn, 1970. S. 42–56.
50
Херасков М.М. Избранные произведения. Л., 1961. С. 173 и след. О важности метафоры «сын Отечества» для русской словесной культуры см.: Schierle I. «Syn otečestva»: Der wahre Patriot // Russische Begriffsgeschichte… S. 347–367.
51
Букв.: «рассказываю рассказанное», т. е. «передаю, что слышал». Латинский топос, обозначающий принцип исторического повествования, сформулированный греческим историком Геродотом («История», VII, 152): «Я обязан рассказать рассказанное, но верить всегда этому я не обязан; пусть это слово мое имеется в виду во всем, что я рассказываю». – Примеч. пер.
52
См. об этом: Thiergen P. Studien zu M.M. Cheraskovs… S. 28.
53
От греч. makarismós, макарисмóс – восхваление (как стилистический прием). – Примеч. пер.
54
От греч. teichoscopía, тейхоскопбия – букв.: «смотрение со стены»; традиционное обозначение содержания III песни «Илиады». – Примеч. пер.
55
«Ab Urbe condita» (от устойчивого лат. выражения «Anno Urbis conditae» – «год основания города», Тит Ливий) – «от основания города (Рима)». Тип летосчисления, использовавшийся для обозначения года некоторыми римскими историками. – Примеч. пер.
56
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / пер. С. Ошерова; под ред. Ф.А. Петровского. М.; Художественная литература, 1979. Кн. VI. С. 263. Ст. 851–853. Ср.:
tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes) pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.
Virgil. T. I. Eclogues. Georgics. Aeneid I–VI. Loeb Classical Library, 1938.
57
«Славянское не читают» или «славянское не стоит прочтения» – долгое время это латинское выражение определяло отношение германистики и широких научных кругов Германии к европейскому Востоку, его славянским странам, языкам и истории. – Примеч. пер.
58
Отрадное исключение из этого правила составила недавно появившаяся работа Иоахима Кляйна: Klein J. Russische Literatur im 18. Jahrhundert. Köln; Weimar; Wien, 2008. S. 158–164. В частности, Кляйн справедливо указывает на явный недостаток изданий поэмы Хераскова и посвященных ей исследований.
59
Херасков М.М. Поэт. Ст. 126. Цит. по: Вендитти М., Шруба М. «Ars poetica» М.М. Хераскова // Russian Literature LXXV. 2014. I/II/III/IV. С. 557. [Электронный ресурс]. URL: http://www.academia.edu/11825176/_Ars_poetica_М.М._Хераскова.
60
Rothe H. Russ. vkus «Geschmack» // Romanica Europaea et Americana. FS für Harri Meier / Hg. H.D. Bork et al. Bonn, 1980. S. 493–504.
61
См. об этом подробно: Thiergen P. Studien zu M.M. Cheraskovs… S. 260–338.
62
Kant I. Werke in zehn Bänden / Hg. W. Weischedel. Darmstadt, 1968. Bd. 8. S. 302 и след. Рус. пер. цит. по: Кант И. Критика способности суждения / вступ. ст. А. Гулыги. М., 1994. Кн. первая: Аналитика прекрасного. § 14.
63
Thiergen P. Studien zu M.M. Cheraskovs… S. 321 и след.
64
Ср.: «Puschkin, der slawische Lateiner, war volksecht und europäisch wie Goethe, wie Mozart» («Пушкин, славянский латинянин, был таким же подлинно народным и европейским, как Гёте, как Моцарт»). Mann T. Zum 100. Todestag Puschkins, 1937.
65
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. С. 449. «Энеида». Песнь I. Ст. 462–463.
66
Очень распространенное в Германии выражение, которое восходит к немецкому переводу одной из речей М.С. Горбачева («К 40-летию основания ГДР» от 7 октября 1989 г.). В немецком употреблении оно несколько изменило свое значение: имеющееся в виду в первой части фразы действие влечет за собой возмездие в качестве своего негативного результата. – Примеч. пер.