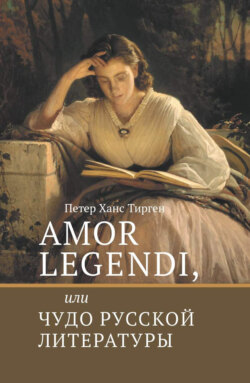Читать книгу Amor legendi, или Чудо русской литературы - Петер Ханс Тирген - Страница 5
Часть I. История русской литературы
Опыт анализа стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» в рецептивном аспекте
ОглавлениеСтихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» было впервые опубликовано в начале января 1830 г., на видном месте во втором номере только что основанной «Литературной газеты», под названием «Станцы». Приблизительно в это же время на страницах этой же газеты Пушкин представился как «поэт действительности»[67]. Друзья и почитатели величали его «национальным поэтом» России[68]. По масштабам эпохи, ориентировавшейся в своих эстетических критериях на Данте, Шекспира и Гёте, трудно представить более высокую оценку. Признание было заслуженным: в своих великолепных лирических стихотворениях и поэмах Пушкин завершил сотворение русского стихотворного языка; работа над его opus magnum, величайшим трудом, романом в стихах «Евгений Онегин» (1823–1830) близилась к концу; совсем немного времени оставалось до выхода в свет первого издания написанной в середине 1820-х годов трагедии «Борис Годунов». И сверх всего этого, Пушкин был на пути к историографии и прозе.
Итак, история триумфа? Пушкин – баловень судьбы, избегнувший последствий декабрьской катастрофы, счастливо реализовавший свое призвание в профессии? Но его высокий художественный ранг и роль литературного наставника не должны скрывать того факта, что после 1825 г. жизнь его не была легкой. При том что он продолжает оставаться любимцем женщин, блещущим любовными и вакхическими стихами и мечущим искры эпиграмм и альбомных экспромтов, его пейзажная и натурфилософская лирика исполнена гармонических образов, его привлекают религиозные и исторические темы, а в программных эстетических манифестах он совершает акт поэтического самосознания. Однако в письмах, статьях и произведениях этих лет, как и прежде, регулярно прорываются иные, тревожные ноты. На первый взгляд, они возникают в связи с внешними житейскими обстоятельствами. Пушкина мучат безденежье, страх болезни; он защищается от обвинений в атеизме[69], он постоянно стеснен бдительным контролем цензуры; ему запрещен выезд за границы России, он страдает от злобных сплетен и лживости большого света. Так же, как Гоголь и другие писатели его поколения, он удручен отсутствием «прочного положения» в обществе.
Однако же это ощущение «бесприютности»[70] выходит далеко за пределы обычных бытовых огорчений. В конце 1822 г., будучи еще совсем молодым человеком, в одном из писем Пушкин утверждал, что «равнодушие к жизни» и «преждевременная старость души» сделались характерным признаком современности[71]. Вновь и вновь он называет себя, хотя бы и в отчасти ироническом смысле, усталым и постаревшим. Он рано начинает писать элегии на темы смерти («Я видел смерть; она в молчанье села…», 1816), в его стихах часты кладбищенские метафоры, которые в романе «Евгений Онегин» вызывают резиньяции по поводу «равнодушного забвенья»[72], ожидающего людей за гробом. Пушкин все больше разрывается между жизнерадостностью и taedium vitae, творческим порывом и «скуки ядом»[73]. Понятия «сомнение», «тоска» и «ничтожество»[74] становятся очень частотными в пушкинских текстах. Во второй половине 1820-х годов Пушкин – неутомимый искатель, гонимый антагонистическими импульсами, мечущийся из крайности в крайность в поисках забвения (в том числе и в алкоголе, и в эротике) и смысла жизни; он богохульствует и жаждет веры, впадает в цинизм и взыскует истины. Добавим к этому отвращение аристократичного и одинокого художника от «жизни мышьей беготни»[75] и ограниченности невежд, далеких от искусства и просвещения. Пушкин, подобно Протею, меняет свой облик в диапазоне от байронического денди до глубоко чувствующего поэта-пророка[76]. В этом разорванном состоянии он стремится к «душевному спокойствию»[77] в личном, политическом, литературном и философском смысле, к упорядоченному существованию, которое компенсировало бы ему его «печальный век» и «печальную молодость»[78]. Диалогическому стихотворению «Герой» (сентябрь 1830 г.) предпослан в качестве эпиграфа вопрос Понтия Пилата «Что есть истина?». В эпицентре «бурь земных» и в «вихре суеты» на него нет верного ответа[79]. И лишь одна достоверность непоколебима: достоверность грядущей смерти, memento mori. Именно этой непреложной истине и ее афористической модификации mors certa, hora incerta (самое определенное в жизни – это смерть, а самое неопределенное – ее час) посвящено анализируемое стихотворение.
Текст четко датирован: 23–26 декабря 1829 г. Следовательно, перед нами рождественское стихотворение, которое самым смущающим, на первый взгляд, образом противополагает тему смерти празднику рождения Христа[80]. Столь же точно датированы и другие рефлексивные стихотворения Пушкина. Знаменитое стихотворение о тщете жизни «Дар напрасный, дар случайный…» датировано 26 мая 1828 г. 26 мая – день рождения Пушкина[81], и 29-летний (!) поэт воспользовался этим поводом для того, чтобы подвести жизненный итог – абсолютно трезвый и насквозь проникнутый настроением, близким к пессимизму Шопенгауэра[82].
Встречаться со смертью лицом к лицу Пушкин начал рано, и впечатления такого рода были неоднократными[83]. Многие его братья и сестры умерли в раннем детстве. Близкие ему люди, покровители и поэтические кумиры, уходили из жизни (Державин умер в 1816 г., Карамзин – в мае 1826 г.). Особенно тяжело он пережил в июле 1826 г. казнь декабристов; среди казненных был молодой поэт Кондратий Рылеев. Летом 1828 г., совершив путешествие на Кавказ в действующую русскую армию, Пушкин вблизи наблюдал военные действия, грозящие опасностью и его собственной жизни. Не в последнюю очередь этими обстоятельствами объясняется то, что в зрелом творчестве поэта традиционно-литературная тема смерти его ранней лирики развивается совершенно своеобразно и обретает глубоко оригинальное эпическое звучание в посвященных ей стихотворениях. Для Пушкина человек лишь странник на пути из земного мира в загробный, вечно угрожаемый одинокий прохожий, пилигрим на неверной и шаткой почве[84].
Лирическое «Я» Пушкина в анализируемом стихотворении – это своего рода двойник поэта. Он странствует по конкретным жизненным ситуациям, устраивая им что-то вроде смотра – и всегда приходит к одному и тому же итогу: «Смерть косит неустанно»[85]. Она вездесуща и повсеместна. Неизвестны только время, место и обстоятельства смертного часа; неопределенным может быть и место последнего упокоения. Лирический субъект представлен чем-то вроде фланера, чьи наблюдения выливаются в умозаключение о том, что человек лишь претендент на место под землей и что его краткий век совершенно ничтожен перед лицом вечной природы и обширностью мироздания. Каждый закончит свой путь тленом или пеплом (IV, 4; VI, 4; VII, 2). В железнодорожной драме жизни каждый ее участник покидает действие на одной из промежуточных станций.
Однако же эти мрачные тона никоим образом не доминантны. Пушкин уравновешивает мотив конечности мотивом постоянного становления и извлекает из сознания неотвратимой бренности утешение вечности. Человек сходит «под вечны своды» (II, 3) – дуб, «патриарх лесов», живет долгие века (стр. 3), и природа сияет «вечною красою» (стр. 8). Из часов и дней, из годов и веков (все эти номинации присутствуют в стихотворении) возникает временнáя ось бесконечности. Незримая цепь непрекращающейся преемственности поколений протянута от личности взрослого лирического субъекта в прошлое (патриарх) и будущее (юноша, младенец – все эти градации человеческого возраста обозначены в тексте). Каждая разлука с жизнью переходит в новое начало и расцвет (стр. 4). Этот ритм обусловливает композицию стихотворения: в 1–2-й строфах развивается тема смертной участи, 3–4-я строфы дополняют тему бренности мотивами нового начала и длящейся во времени жизни природы, в 5–6-й строфах на первый план вновь выдвигается мотив смерти, наконец, обе заключительные строфы окончательно отодвигают мортальный катаклизм на задний план мотивами надежды на вечный покой в родных пределах и трезвучием мотивов юности, красоты и вечности. Впрочем, слово «предел» в равной мере заключает в себе ассоциативные смыслы «родина» и «конец жизни». Чередование статики и динамики поддержано разнообразными смысловыми и лексическими, прямыми и косвенными оппозициями (шум и тишина, движение и остановка, внешнее и внутреннее, близкое и далекое, юность и старость, личность и масса, человек и природа, могила и жизнь). Почти 30 глаголов во всех возможных временных формах делают ощутимой динамику перемен от процесса к результату и от него – к новому процессу.
Таким образом, композиционный принцип выявляет основной посыл стихотворения. Образы внешнего непокоя и внутреннего смятения первых строф переходят в картину спокойствия и приятия неизбежности в заключительных. Ответы на вопросы зачина дает последовательное развертывание рефлексии[86], причем последняя строфа оказывается единственной, не содержащей личного местоимения (я, мне, моим, тебе, мы…). Образ вечной и «равнодушной» природы упраздняет все личное и индивидуальное. Такое заключение поразительно созвучно учению Шопенгауэра, декларирующему эфемерность индивидуального существования и атрибутивность вечности роду и «равнодушной» природе[87]. Смерть индивида знаменует конец только его отдельной жизни; напротив, длящаяся жизнь природы в ее бесконечной циркуляции являет собой непрерывное круговращение. Безусловно не случайно то, что окончательные редакции первой и заключительной строф были созданы Пушкиным в результате долгого поиска вариантов[88].
Кроме нескольких церковнославянизмов, лексика стихотворения в целом не только отражает пушкинский идеал ясности языка, но и дает повод к размышлениям о семантических проблемах. Приведем несколько примеров. Зачин стихотворения ставит на инициальную позицию одно из любимых слов Пушкина, страстного любителя прогулок и неутомимого пешехода: «Брожу ли я…». В немецком языке для слова «бродить» не существует полного эквивалента. Каждый переводчик пушкинского стихотворения на немецкий язык предлагает свой вариант: спешить (eilen), ходить (gehen), скитаться (umherirren), плестись (schlendern), бродить (streifen)… В других пушкинских текстах значение этого слова в индивидуальном словоупотреблении поэта колеблется в диапазоне от беззаботной прогулки по улицам до почти философически-угрюмого фланирования по жизни[89]. Аналогичной полисемией характеризуется излюбленное пушкинское семантическое поле «шум/шумный». Относящиеся к нему слова могут обозначать игру и эмоциональный подъем («шум игривый», «шумный восторг») с одной стороны, и тягостный или грустный звук – с другой («шум печальный»)[90]. Слово «мечта» (стрф. 1) вновь обнаруживает семантическое мерцание на грани понятий «фантазия», «мысль», «идея», «образ». В черновых вариантах оно встречается чаще, чем в окончательной редакции. Наконец, в заключительной строфе переводческую проблему предлагает эпитет «равнодушная». Переводчики колеблются между вариантами беззаботная (unbekuemmert), невозмутимая (gleichmuetig), безучастная (gleichgueltig). Невозмутимость – это скорее признак философски-стоической атараксии, тогда как безучастность знаменует холодность и безразличие.
Впервые употребленное Пушкиным в истории русской поэзии словосочетание «равнодушная природа» быстро стало формулой, которой стихотворение обязано своей славой. Оно заключает в себе ядро новой натурфилософской концепции, подвергающей сомнению традиционную точку зрения на природу как на благосклонную и отзывчивую среду обитания человека. Природная сфера более не рассматривается с религиозно-христианских или умозрительно-идеалистических позиций в качестве «матери-природы» или «наместницы Бога»: она предстает скорее инертной и безучастной силой, ввергающей человека в полное одиночество, вынуждающей его самостоятельно обретать опыт самоидентификации[91]. И возмещение этой экзистенциальной утраты человек может найти только в предположении о том, что его способна сберечь в вечности и в прекрасном единстве природы исключительно принадлежность к роду. Приятие этого допущения сохраняет идеалистический компонент в материалистическом шоке. Как свидетельствует заключительный глагол текста – «сиять», Пушкин настаивает именно на этом. Сохранность в вечности природы гарантирована индивиду независимо от христианского спасения и посмертной поэтической славы non omnis moriar[92]. Только так можно сравнять счет и обрести утешение ввиду неизбежности погружения в «холодный ключ забвенья»[93].
Формула «равнодушная природа» в ее ассоциативной связи с мотивом смерти имеет свою предысторию и порождает свои дальнейшие отклики. Поиск аналогий ведет к Вольтеру, Монтеню («Философствовать – значит учиться умирать»), а от этого последнего – к Лукрецию и его дидактической поэме «De rerum natura», третья книга которой предлагает поразительные параллели со стихотворением Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»[94]. Сопоставимые мотивы можно найти и в немецкой литературе (Гёте, Новалис, Тик)[95]. Но история рецепции пушкинской формулы важнее истории ее возникновения.
Первым пушкинскую формулу подхватил Иван Тургенев, часто ее цитировавший (и временами – заключая в кавычки): в его письмах и произведениях она буквально бросается в глаза[96]. Представление о равнодушии природы порождает устойчивый тургеневский мотив смертного ужаса, horror mortis, и страх того, что это безразличие может отменить необходимость разума, истины и справедливости[97]. Лишь изредка, подобно тому, как это происходит в финале романа «Отцы и дети» (1862), этот страх смягчается дополняющими и умиротворяющими его мотивами покоя, продолжения жизни и красоты. Позже тема «равнодушной природы» оживает в проблематике творчества Антона Чехова, который вначале сохраняет свойственную ей у Пушкина и Тургенева амбивалентность, но позже, обратившись к философской гомологии стоиков, обретает более углубленный и гармоничный взгляд на природу и жизнь[98].
С формальной точки зрения структура стихотворения не представляет собой ничего необычного. Четырехстопный ямб – излюбленный метр Пушкина и современной ему лирики, особенно употребительный в жанре элегии[99]. Перекрестная рифма (с чередующимися женскими и мужскими клаузулами) и строфика (катрены) вполне традиционны. Несколько более примечательна звукопись, организованная на всем протяжении текста доминантой закрытого мрачного «у» (более 30 случаев употребления, считая с йотированным вариантом «ю»). В научно-исследовательской литературе эта особенность определяется как «унылая инструментовка», которой временами, особенно когда речь идет о юности (стрф. 4 и 8), противостоит ассонанс на открытый светлый гласный «а»[100]. По меньшей мере столь же примечательна активность риторических фигур. Благодаря анафорам, эпифорам, многочисленным параллелизмам (вплоть до переклички вопросительных частиц), циклическим образованиям и хиазмам, а также антитезам, перечислениям и инверсиям язык стихотворения становится подлинным произведением искусства. Полиптотические повторы в сочетании с использованием синонимов оплетают стихотворение сетью фонетических и семантических созвучий[101]. Аккумуляция лексического материала и активность риторических фигур превращают текст в своего рода текстуру, в геометрическом центре которой помещена облеченная в формально параллельные синтаксические структуры смысловая антитеза: декларация смерти-становления «Мне время тлеть, тебе цвести» (стр. 4, ст. 4) – эта четкость далась Пушкину лишь после длительных поисков.
Текст стихотворения не перегружен развернутыми сравнениями и распространенными описаниями. Он исполнен лучезарной ясности, невзирая на остающиеся открытыми для возможной интерпретации смыслы. «Мысль о смерти неизбежной» (формулировка, неоднократно возникающая в черновых вариантах текста) с безупречным чувством формы укрощена классически-реалистичным языком, в лучшем случае допускающим в качестве тропа конкретный символ. Энигматика и маньеризм абсолютно исключены. Прозрачность языка и композиции делают очевидными оригинальность мысли и экзистенциальную тематику стихотворения. Лишь глубина мысли, как считает Пушкин, может даровать слову «истинную жизнь»[102]. «Равнодушие» – традиционный эпитет, обычно характеризующий мир людей, впервые атрибутирован природе[103]. Возможно, эту транспозицию облегчил именно антропоморфный концепт «матери природы». И при всей очевидности близких параллелей с Монтенем и Лукрецием Пушкин все же проявляет себя и как совершенно самостоятельный для своего времени мыслитель, рефлектирующий о смерти и природе: interpres mortis et naturae, и как подлинный «поэт действительности», чей отпор общепринятым воззрениям на природу блистательно удостоверен последующими достижениями естественных наук. Итог нашему анализу может подвести высказывание биолога Андреаса Пауля: «Знания, полученные нами в процессе эволюции биологической науки, не являются практическим руководством к счастливому бытию. Так называемая благосклонная “природа-мать” совсем не такая гармоничная и идиллическая, какой нам хотелось бы ее видеть. Но, прежде всего, она совершенно индифферентна в нравственном смысле: у генов нет морали, они не “хорошие” и не “плохие”»[104]. Пушкин предчувствовал эту антиромантическую (или пессимистично-романтическую) концепцию, ибо источником его творчества было не смутное наитие, а точное наблюдение и критическая мысль.
67
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.; Л., 1962–1965. Т. 7. С. 110.
68
Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники: в 2 т. / под ред. В.В. Кунина. М., 1984. Т. 1. С. 505 (Письмо П.Я. Чаадаева Пушкину от 18 сентября 1831 г.).
69
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 86 и след., 199, 203 и след.; 672, 692 (комм.).
70
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 250.
71
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 49 (Письмо к В.П. Горчакову, октябрь-ноябрь 1822 г.).
72
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Гл. 7. Стр. 11.
73
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 127: «По капле, медленно, глотаю скуки яд». Стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне?..» написано в ноябре 1829 г. См. также: Setschkareff V. Ueber die Langeweile bei Puschkin // Solange Dichter leben. Puschkin-Studien / Hg. A. Luther. Krefeld, 1949. S. 129–147.
74
Ср. стихотворения «Ангел», «Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный…», написанные в 1827–1828 гг.
75
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 197 («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», октябрь 1830 г.).
76
О дендизме Пушкина см.: Kissel W. Russischer Dandysmus der Puškin-Zeit (1801–1837). Bonn, 1991. S. 144 и след.
77
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 304 (Письмо П.А. Плетневу от 31 августа 1830 г.).
78
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 208, 280.
79
Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 155, 228.
80
См. датировку: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: в 4 т. М., 1999. Т. 3. С. 120–122. См. также: Благой Д.Д. Об одной необычной пушкинской датировке // Замысел, труд, воплощение… / под ред. В.И. Кулешова. М., 1977. С. 67 и след.
81
См. датировку: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: в 4 т. М., 1999. Т. 3. С. 66.
82
См. об этом: Trojansky E. Pessimismus und Nihilismus der romantischen Weltanschauung, dargestellt am Beispiel Puškins und Lermontovs. Frankfurt/M., 1990. В. Сечкарев отмечает типологическую близость пушкинских взглядов «концепции Шопенгауэра» (Setschkareff V. Alexander Puschkin. Sein Leben und sein Werk. Wiesbaden, 1963. S. 69).
83
См.: Дранов А.В. Поэт и смерть. Танатологические аспекты творчества и жизни Пушкина // А.С. Пушкин. К 200-летию со дня рождения. М.: Изд-во РАН, 1999. С. 56–74.
84
Ср. стихотворения «Телега жизни» (1823) и «Дорожные жалобы» (1829).
85
См.: Schopenhauer A. Sämtliche Werke. Bd. I–V / Hg. W. Frhr. von Löhneysen. Darmstadt, 1968. Bd. II. S. 611. Ср. также стихотворный жанр «созерцания смерти», оформившийся в творчестве Уильяма Каллена Брайанта («Thanatopsis», между 1811 и 1821 гг.).
86
Ср.: «мечты» (стрф. 1, ст. 4) – «я мыслю» (стрф. 3, ст. 2) – «я думаю» (стрф. 4, ст. 2) – «думой провождать» (стрф. 5, ст. 2).
87
См.: Schopenhauer A. Sämtliche Werke. Bd. II. Anm. 19. S. 595 и след., 604 и след., 617 и след.
88
См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М.: АН СССР, 1937–1949. Т. 3/2. С. 784–790. См. также: Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 360 и след.; Маранцман В.Г. Об одном из законов финалов // Литература в школе. 1970. № 6. С. 6–9.
89
О типологии образа фланера см.: Benjamin W. Der Flaneur // Walter Benjamin. Das Passagen-Werk / Hg. R. Tiedemann. Bd. 1: Aufzeichnungen und Materialien. Frankfurt/M., 1983. S. 252–569.
90
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 60, 62, 88, 155, 163, 169, 174, 196.
91
См. об этом: Thiergen P. Die «gleichgueltige Natur». Zu einem Topos in deutscher und russischer Literatur // Die Wirklichkeit der Kunst und das Abenteuer der Interpretation. Festschrift fuer H.J. Gerigk / Hg. K. Manger. Heidelberg, 1999. S. 315–334.
92
«Нет, не весь я умру…». Гораций. Оды III, 30. Цит. по: Гораций Флакк Квинт. Сочинения / пер. С. Шервинского. М., 1970. С. 176.
93
Пушкин А.С. «Три ключа» (1827).
94
О традиции Лукреция см.: Мальчукова Т.Г. О традиции Лукреция в поэзии Пушкина // Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы»: от сюжета к мотиву / под ред. В.И. Тюпы. Новосибирск, 1996. С. 116–136. О влиянии Монтеня: Бутакова В. Пушкин и Монтень // Временник Пушкинской Комиссии. М.; Л., 1937. Вып. 3. С. 203–214. Наконец, о сближении с Вольтером: Дранов А.В. Указ. соч. С. 56–74.
95
См. подробно: Thiergen P. Die «gleichgueltige Natur». S. 316 и след.
96
См. подробно: Thiergen P. Die «gleichgueltige Natur». S. 323 и след.
97
Ср. его стихотворение в прозе «Природа».
98
См. подробнее: Thiergen P. Die «gleichgueltige Natur». S. 330 и след. См. также: Thiergen P. Zum Begriff der «Gleichgueltigkeit» bei Čhechov // Anton P. Čhechov: Philosophische und religioese Dimensionen im Leben und im Werk / Hg. V.B. Kataev, R.D. Kluge, R. Nohejl. München, 1997. S. 19–28.
99
Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984. С. 106 и далее.
100
Благой Д.Д. Указ. соч. С. 69 и след. См. также: Благой Д.Д. Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина. М., 1979. С. 203 и след.; Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 76 и след.
101
Ср., например, ряды «годы» – «година» – «годовщина»; «входить» – «вход»; «тлеть» – «истлевать»; «младенец» – «младая жизнь»; «равно» – «равнодушная».
102
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 310; ср. также: с. 15 и след.
103
Д. Чижевский справедливо отмечает, что новаторство пушкинского поэтического языка заключается не столько в лексических неологизмах, сколько в новизне словосочетаний на базе лексики повседневного языка. Tschizhevskij D. Puschkin und die russische Sprache // Solange Dichter leben. Puschkin-Studien. S. 183.
104
Paul A. Von Affen und Menschen. Verhaltensbiologie der Primaten. Darmstadt, 1998. S. VIII.