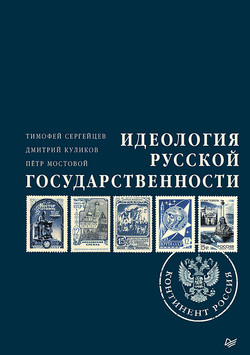Читать книгу Идеология русской государственности. Континент Россия - Петр Мостовой, Тимофей Сергейцев - Страница 5
Часть II
Философия истории русского государства
II.0. Древняя Русь. Предгосударство
II.0.1. Миф, легенда и история являются знаниями
ОглавлениеМножество копий сломано в общественной дискуссии по поводу роли исторической науки или вообще истории, как любого описания и интерпретации событий прошлого, в политической практике и формировании курса власти.
Одни диспутанты утверждают, что история – это вовсе не наука, а лишь «прислужница» идеологии. При этом «идеология» в их устах – либо ругательное слово, либо, напротив, великая и едва ли не главная ценность. В любом случае с этой точки зрения историческое описание является формой и способомподачи идеологического содержания.
Другие доказывают, что историю «пишут победители», а побежденные из истории исчезают, вместе со своей ролью и точкой зрения. И, опять-таки, такое положение либо нормально (или даже единственно возможно), либо с ним нужно всячески бороться и обеспечить «права побеждённых», услышать голос их «правды».
Все эти точки зрения сходятся в одном – что якобы ни государство, ни общество (народ) не могут обойтись без представления о том, как же в прошлом было «на самом деле», и что надо дать убедительный ответ на вопрос об этом «самом деле», согласившись с якобы довлеющей «потребностью» в бесспорности картины прошлого.
Такой вымысел о прошлом (а ничем, кроме вымысла, подобная конструкция быть не может) называют «мифом», который-де лежит в основе ни более ни менее, а самого исторического существования нации, её государства и общественной жизни. Нетрудно видеть, что, принимая подобный взгляд на вещи, мы оказываемся в плену у «борьбы» разных вымыслов, ложь уравнивается в правах с правдой, точек зрения может быть сколько угодно (у каждого – своя), а вопрос об истине вообще не стоит. Исторической науке и знанию в этом контексте никакого места нет вообще.
Само предложение сконструировать «национальный миф» (называемый часто «национальной идеей») является подлинным механизмом вытеснения из интеллектуального оборота любых исторических представлений. Делается это под благовидными предлогами прекратить «переписывание истории» (хотя весь смысл подлинного исторического исследования именно в действительном переписывании без кавычек) и обрести будущее, которое на деле окажется лишь мистификацией прошлого.
Историческое знание (тем более историческая наука) принципиально спорно. Оно не обладает «истиной в последней инстанции» – как знание и наука вообще. Напротив, их ценность как раз в этом и состоит. А особое специальное значение исторического знания и наук в том, что именно история (как реальный процесс, ход вещей) «рассуживает» споры по поводу знания и придаёт тем или иным представлениям статус рабочих, принятых за основание для рискованных человеческих действий. Ведь то, что было, никуда не исчезает, не рассеивается, а всегда присутствует в том, что есть, хотя и в неявном, скрытом, свёрнутом виде.
Однако спорность исторического знания (как и любого знания) вовсе не в произволе мнения, которое действительно может быть любым, поскольку ничем не рискует и ни за что не отвечает (а когда рискует и отвечает, то называется уже по-другому – не мнением, а глупостью).
Позиции спора о знании должны быть обоснованы, и таких позиций всегда немного, как правило – всего две (что может быть идеализировано как «противоречие», «противоположность», «диалектика», «диалог»), хотя встречаются и более сложные интеллектуальные ситуации с тремя, четырьмя или даже бо́льшим числом позиций. Однако структура обоснованного спора не имеет ничего общего с перепалкой на телевизионном шоу или разноголосицей в прессе и социальных сетях. Она гораздо ближе к судебным прениям.
«Множественность» любого знания связана с тем, что знание есть знаковая конструкция, замещающая предмет исследования. Вещи сами по себе не могут быть предметами мысли, ими могут быть только специально, искусственно созданные «вещи мысли». Только к этим последним и применяются познавательные операции различного типа вместо предметов «реальности» (человеческой практической деятельности), а результаты этих операций относятся к реальным вещам.
Относимость (релевантность, сама возможность отнесения) знания есть вообще его первый критерий (что это именно знание, а не что-то иное). Отнесение может пониматься как интерпретация. Или как эксперимент – когда натуральные вещи подгоняются под знаковую конструкцию. В последнем случае, как правило, речь идёт об устранении различных «помех», «примесей» и вычленении из фона реальности исследуемого предмета в «чистом виде». Логической изоляции предмета в знании соответствует физическая изоляция реальной вещи в «вакууме» эксперимента.
Множество знаний удерживается в единстве отношения к чему-то «одному и тому же» не за счёт вещей реальности. Обратное наивное утверждение известно как натурализм, он же материализм, он же вульгарный материализм. Натурализм-материализм поэтому утверждает, что знания якобы «отражают» реальность. Это неверно. Так нельзя построить никаких, даже самых элементарных знаний. Множественность знаний удерживается иначе, с помощью идеальной «вещи мысли», идеи по Платону, зафиксированной специальной знаковой конструкцией объекта (идея становится объектом именно в силу знаковой привязки). Есть известная старая притча о слоне и нескольких слепых мудрецах, которые спорили о том, что есть слон. Один держался за хвост, другой за хобот, третий за ногу и т. д. Но вот вопрос: раз они слепые, откуда они знали, что вообще исследуют один и тот же предмет?
В чём специфика исторического знания по сравнению со знанием вообще? В (физическом) отсутствии предмета. Ведь прошлое прошло. Его нет. Есть лишь рассказы и записи о нём, то есть уже некоторое «изначальное» замещение. Отсюда и растут ноги утверждений, что история не может быть наукой. Якобы не дан предмет. Значит, и это мнение Декарта, история – только «враки», неправдоподобные россказни. Всё это нельзя проверить так, как можно проверить физическую теорию в эксперименте. Ответ Декарту, критику исторического знания как такового, дал методолог истории Р. Коллингвуд. Прошлое содержится в настоящем, является признаком и свойством последнего. История – перед нами. Всё, что мы видим и имеем – история. Подлинный предмет истории – настоящее. История – это мы сами. То, что определяет наши действия и поступки, цели и представления. Строя историческое знание, мы строим самих себя.
Ценой ошибки будет наша судьба. Победа или поражение. Идеальный объект исторического исследования – исторический процесс (История с большой буквы) – связывает исторические знания (реконструкцию событий, то есть факты) с деятелем, по отношению к которому всё «прошедшее» есть не просто «предпосылка», оно и есть он сам, то есть цель, намерение и воля, отталкивающаяся от прошлого, каким оно узнано и познано.
Прошлое нельзя изменить, его нельзя «переписать», ведь оно уже было, и в этом качестве прошлое есть одна из ипостасей Бытия. Прошлое существует. Оно реально, хотя и не «дано» нам. Оно существует в наших знаниях о нём, как их объект и даже в нашей вере в то, каким оно было. Но оно не тождественно нашему представлению о нём.
Очень важно понимать, что, изменив историческое знание или навязав другое, ложное или чужое знание кому-либо, мы меняем самого человека, варианты его действий и поведения, человек становится другим. «Переписывание» истории – это всегда изменение знания о прошлом, а это значит, что переписывается не то, что было когда-то, «переписывается» или даже «перезаписывается» человек здесь и сейчас в тот момент, когда он это изменённое знание принял. Никакая машина времени не нужна, чтобы исправить настоящее из прошлого. Достаточно «всего лишь» изменить знание об истории. Но, подчеркнём ещё раз, дело исторического самоопределения не решается вымыслом, произволом и ложью.
Сегодня модно говорить об «образе будущего», и это кажется понятным: как себя помыслишь «в завтра» – тем и будешь. Но для того, чтобы помыслить себя «в завтра», нужно ясно понимать, кто ты «сегодня». Каково само это «сегодня»? Какой у тебя «образ прошлого», каковы твои знания о себе, «образ себя»? Историческое знание – в отличие от вымысла, произвола и лжи – обладает действительной программирующей силой. Именно на основании знаний люди ставят цели, выбирают способ действия и совершают поступки. Этот метод может привести и к поражению, ошибке. Но он предоставляет и шанс успеха, победы. Если же метод реализован многократно, несколькими поколениями, то стратегический успех или неудача могут быть оценены вполне достоверно и надёжно. Вымысел или ложь нельзя называть мифом ни в каком смысле, поскольку в этом случае мы лишимся понятия, позволяющего фиксировать само начало истории, то, что ей предшествует.
Мы уже отметили, что миф, в отличие от истории, в узком смысле слова, является формой традиции устного предания и фиксирует повторяющиеся значимые (выдающиеся) события, происходившие в неопределённом прошлом. То есть не просто в прошлом, не охваченном хронологией (знаковой фиксацией, записью последовательных события), но в таком, где о самой последовательности событий судить нельзя. Легенда – однажды записанный историком и идеологом миф – по существу является пред-историей, после которой и с которой начинается запись событий, как уникальных и не повторяющихся (рассматриваемых как различные). Достоверность легенды в том, что миф записан без искажений, без литературного сочинительства со стороны летописца, таким, каким он передаётся изустно. Содержание мифа не может и не должно «проверяться» писцом. Содержание мифа не претендует на историческую точность описания конкретного события, однако этого и не требуется, поскольку содержание мифа релевантно – относимо к историческому процессу (объекту исторического знания) в целом именно в силу стереотипности обстоятельств и действий героев мифа. Миф описывает то, что повторялось, воспроизводилось, доисторический «круг времени». Записанный миф – легенда – входит в корпус исторического знания как описание границы, начала исторического процесса.