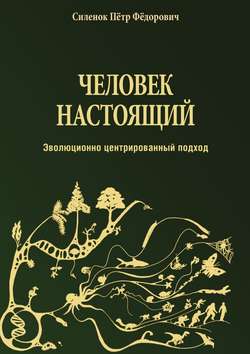Читать книгу Человек настоящий - Пётр Фёдорович Силенок - Страница 4
Часть 1. Аутентичность
Психотерапия как форма актуализации аутентичности
ОглавлениеЯ не раз писал, что современная психотерапия фактически ушла за пределы собственно клинического контекста. Консервативные установки психиатрической психотерапии уже не способны ограничить психотерапевтическую компетентность и психотерапевтическую практику работой только с психологической патологией. Попытка экстраполировать психиатрию и психиатрическую психотерапию на различные другие контексты социальной жизни (за счёт расширения собственно психиатрического видения маргинальных, пограничных, акцентуированных и подобных поведенческих особенностей здоровых людей) ни к чему конструктивному не приводят. Лозунг «Большую психиатрию – в жизнь!» не состоятелен в принципе. А попытки его реализации (скажем, для диагностики личностных особенностей и понимания мотивации политических, артистических или научных деятелей) чреваты серьезными, даже трагическими последствиями. Будем надеяться, что это уже наша (да и не только) история.
Одно из существенных отличий психотерапии нового времени – её принципиальная опора на когнитивные, прежде всего мыслительные процессы в ходе взаимодействия психотерапевта с субъектом, актуализация субъектной позиции клиента и даже пациента. Тем самым ломается многовековая и даже тысячелетняя традиция апелляции к иррациональному и таинственному – мистическому аспекту психотерапевтического взаимодействия. Эта традиция подчёркивает ведущую роль психотерапевта, наделяя его чертами мага, чародея, волшебника… мы можем наблюдать это в «чудесном образе» народного целителя или гадалки. Эти парапсихологические и парапсихотерапевтические формы отражают огромную потребность людей в психологической помощи. Реальную квалифицированную психологическую помощь, однако, через эти «параформы» получить нуждающиеся не в состоянии.
Ещё одной важной чертой современной психотерапии, открыто или неявно (пресуппозиционно) обозначаемой различными исследователями, является существенное расширение основного её предмета – а именно психического и психологического здоровья человека. Благодаря более широкому пониманию категории здоровья и, соответственно, категории психологической патологии появилась так называемая психотерапия здоровых людей. Эта, казалось бы, противоречивость и семантическая несочетаемость категорий «здоровый человек» и «психотерапия здоровых» легко разрешается за счёт понимания условности каждой из них.
Я полагаю, что под категорией «психологически здоровый человек» нужно понимать не отсутствие у него психологической симптоматики и психологических проблем, а систему благоприобретённых личностных качеств и стратегий, для того чтобы принимать жизненный вызов и учиться адекватно действовать в сложных для него ситуациях. Психологически нездоровый человек – тот, кто в ситуации вызова начинает жить симптоматикой, то есть страдать. Получается, что психологически здоровый человек – это зрелая личность, которая является, по сути, субъектом собственного развития.
Условность категории «психотерапия» становится очевидной в свете понимания природы психотерапии. Суть многообразных форм и методов психотерапии фактически сводится к созданию необходимых условий для формирования у клиента субъектной позиции и овладения им адекватными стратегиями управления собственным развитием на базе его проблемной симптоматики. Психотерапия – буквально как «лечение психики» – во многом потеряла своё значение. В свете сказанного этот термин следует расшифровывать как специфическую форму психолого-педагогического руководства.
Я предлагаю это понимание и видение современной психотерапии для здоровых людей, имеющих психологические проблемы – именно как формы психолого-педагогического руководства развитием человека. Сам факт психологической проблемы у субъекта свидетельствует о «несогласии» нашего бессознательного с возникающими трудностями. И если человек не справляется с психологической проблемой и начинает с ней жить, то это «несогласие» (вплоть до «протеста») становится и «фигурой», и «фоном» – содержанием его жизни. А сама проблемная ситуация для субъекта воспринимается как жизненный, экзистенциальный тупик.
Очевидно, что психотерапия и психологическое консультирование играют роль «сталкера» – проводника субъекта из его «зоны фиксации» в пространство «желаемого». В этом ключе психологическая проблема приобретает статус «творческой эвристической задачи» – и не только для психотерапевта, но и для клиента! Привлекательность, семантика и энергетика для субъекта (клиента) возможностей и перспектив, открывающихся в психотерапевтическом взаимодействии, становится решающим для него фактором мотивации «продвижения», изменения и развития. Эта мотивация делает субъекта открытым для новых и адекватных форм восприятия, мышления и поведения в ранее проблемных тестовых ситуациях.
Изучая состояния людей, открытых в сторону решения проблемы, ориентированных на поиск новых, ещё не апробированных способов мышления и поведения, я обнаружил одну особенность: человек в ситуации выхода из тупика не включается в какую-то роль, не пользуется готовыми шаблонами, не опирается на убеждения относительно реальности и собственной идентичности. Он как бы попадает в ситуацию незнания и в состояние незнания. При этом он, как играющий ребёнок, не испытывает никакой растерянности или сомнения, а, наоборот, воодушевлён некой интуитивно открывающейся для него возможностью новой перспективы.
Само по себе это состояние открывает способность к генеративному расширению, актуализирует его. Условно можно назвать такое состояние «прединсайтным». «Прединсайтное» состояние возникает во всех случаях, когда человек спонтанно или целенаправленно теряет фиксацию и тем самым невольно или вольно позволяет мышлению и фантазии следовать за некими интенциями. Если обратить внимание на увлечённых игрой маленьких детей, то мы обнаружим эти самые необусловленные социальными нормами креативные формы поведения. Детская способность к необусловленному, креативному квазиролевому поведению, на мой взгляд, и есть непосредственное выражение его аутентичности. И именно в психотерапевтическом процессе как раз и актуализируется (в силу крайней заинтересованности и заряженности клиента на счастливое разрешение психологической проблемы) эта его детская творческая аутентичная натура – способность удивляться, творить и от души радоваться жизни.
Можно сказать, что современная психотерапия оказывается не просто фактором формирования гуманистического общественного сознания, но прежде всего превращается в важнейший реальный социальный институт личностного и духовного развития человека. Будучи тесно связанной исследовательскими проектами и системой практики с тайнами и закономерностями аутентичности природы человека, она автоматически становится междисциплинарным основанием системы человекознания в целом.