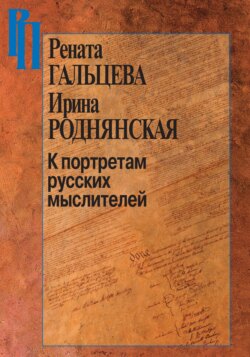Читать книгу К портретам русских мыслителей - Ирина Бенционовна Роднянская, Рената Гальцева - Страница 6
Владимир Соловьев
Р. Гальцева, И. Роднянская
Просветитель: Личная участь и жизненное дело Владимира Соловьева
(По случаю выхода в свет труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы»)236
Оглавление…Объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои неблагоразумны.
Из письма Вл. Соловьева
С.А. Толстой от 14 мая 1877 года
Репринтная комментированная публикация трехтомного труда Сергея Михайловича Лукьянова237 – заметное культурное событие, дающее отличный повод в свете позабытых или свежих источников заново окинуть взглядом удивительный путь русского мыслителя и дело его жизни.
Тех, кто углубится в книгу этого почитателя и биографа В.С. Соловьева, ожидает встреча с блистательным молодым героем, у которого все впереди. Выходец из благополучной и высокообразованной профессорской семьи, «философ призывного возраста», в двадцать один год успевший изумить коллег профессионально глубоким и вместе с тем дерзновенным трудом и вызвать уважительный интерес у таких старших современников, как Л.Н. Толстой, Достоевский, Страхов; юноша с поражающей воображение наружностью, снискавший почти «скандальный успех» в светских салонах и интеллектуальных гостиных; путешественник по заграничным центрам просвещения и таинственным экзотическим землям, прямо с университетской скамьи направленный в престижную научную командировку, – он привольно идет по дороге, которая сама расстилается перед ним, предлагая беспрепятственную академическую карьеру и суля жизнь, проводимую в утонченных умственных пиршествах.
Если бы С.М. Лукьянову удалось довести свои биографические разыскания до намеченной черты – до 1881 года, который ему видится концом «молодых лет» Владимира Сергеевича, – тогда читатель узнал бы о переломе этой, казалось бы, ясно наметившейся линии: публично выступив с «безумным» призывом к царю Александру III – помиловать убийц его отца во имя христианской общественной идеи, Соловьев обнаружил свой истинный выбор и навсегда расстался с возможностями просторной и торной дороги. В последующие годы он, конечно, не «питался сухожилием и яичной скорлупой» и в «болотах» не ночевал, как то изображается в его юмористическом стихотворении «Пророк будущего» (1886), но, согласно с пояснением автора к этому опусу, в его жизни, действительно, «противоречие с окружающею общественной средой доходит до полной несоизмеримости».
И когда встречаешь Соловьева на его последнем, смертном пути из Москвы в Узкое238 – поистине узком пути, – следующего с единственной связкой книг из одного чужого жилища в другое, коротко остриженного, расставшегося даже со своими колоритными кудрями, то каким контрастом с безоблачным триумфальным началом представляется этот финал…
Но в случае Соловьева такое житейское оскудение свидетельствует как раз о торжестве его миссии, об исполненном призвании. Большинство людей, сталкивавшихся с ним, сразу ощущало, что он создан не по мерке обычной жизни, что он как бы пришелец неотсюда и явился со своей особенной вестью.
Самое его происхождение, родовые корни наталкивают на мысль о некоей провиденциальной подготовке появления его на свет: тут и поразительное сходство будущего скитальца, проповедника и натурфилософа со своим дальним предком, странствующим мудрецом и учителем жизни Григорием Сковородой239; и благословение на служение Богу, полученное ребенком в алтаре от деда-священника; и дух воителя, унаследованный от военной родни; и, наконец, близость к настроению отца, историка, принадлежавшего, по словам В.О. Ключевского, к числу людей, готовых проповедовать в пустыне, и как будто передавшего сыну свою отроческую мечту – основать философскую систему, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. За образцами подходящей для Соловьева судьбы мемуаристы и биографы отправляются в легендарные времена, обращаются к легендарным фигурам. Его сравнивают с античным праведником Сократом240 и с античным любомудром Платоном – не только из-за «сократовской» проповеди добра и из-за «платонической» интуиции горнего мира, но и по сходному положению между общественными силами, с разных сторон не приемлющими носителя примирительной истины. Столь же наглядна параллель Соловьева-проповедника с пророческими фигурами Ветхого завета, о которых он писал: «Они оказались пророками в трех смыслах: 1) они предваряли царство правды, идеально определяя им свое религиозное сознание; 2) они обличали и судили действительное состояние своего народа как противоречащее этому идеалу и предсказывали народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия; 3) самим своим явлением и деятельностью они предуказывали выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа…»241. Когда читаешь эти строки, понимаешь, что Соловьев, не мысля равнять себя с персонажами Священной истории, тем не менее именно так представлял себе собственный долг по отношению к своей родине, – и долг этот исполнял, не оглядываясь на обстоятельства.
Следя за жизненной линией Соловьева, внимательный читатель книги Лукьянова заметит, что здесь не однажды возникает сравнение ее героя с Франциском Ассизским: с образом жизни великого католического святого сопоставляют как добровольную бедность Соловьева – правда, хранимую не по обету, а из «пренебрежения к власти денег» (Н.В. Давыдов) и из отзывчивости к просителям, так и одушевляющее отношение к природе, сочувствие живым тварям и дар мистической радости, не чуждой юмора и шутки. В тонах средневековой героики виделся Соловьев и Александру Блоку, назвавшему его «рыцарем-монахом». Отсюда недалеко до пушкинского «рыцаря бедного», над чьей стезей, применительно к собственным видениям, размышлял Соловьев в трактате о «смысле любви». И, конечно, в позднейшем литературном перевоплощении этого «рыцаря» – в князе Мышкине – предугадана ангелическая духовность Соловьева, его бестелесный эрос: избранницы его, при самом сердечном восхищении, от союза с ним неизменно уклонялись, чувствуя, верно, то же самое, что Лизавета Прокофьевна (в романе «Идиот») перед лицом симпатичного ей Мышкина, однако, «невозможного жениха» для ее дочери.
Среди свидетельств, сохранившихся в памяти современников Соловьева, попадаются формулы почти житийного характера. «… Печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице», – вспоминает старый его товарищ А.Г. Петровский242. Сестра Соловьева М.С. Безобразова так передает слова многих знавших его людей: «В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше: при нем слишком стыдно было думать и чувствовать гадко». И она добавляет от себя: «Войдет высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются <…> и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!»243. Католический деятель епископ Штроссмайер, близкий к Соловьеву, определил его с четкостью и лаконизмом средневековой латыни: Soloviev anima candida, pia ас vere sancta est («…душа простая, благочестивая и поистине святая»). Даже эпизоды его жизни порой передавались в агиографическом стиле: «Хотел видеть Фаворский свет и видел»; «Видел дьявола и пререкался с ним».
И тем не менее – соответственно посланнической участи, предполагающей тернии, незаслуженно дурную славу, – подобные свидетельства чередуются с недоумениями и даже с попытками разоблачения: аномалии психики, кощунственная насмешливость, попустительство чувственным соблазнам, демоническое угрюмство, ставрогинская изломанность, оригинальничанье и позерство, переменчивость убеждений… Раздраженный непонятной фигурой «ложного пророка», епископ Антоний (Храповицкий) составил из темных слухов и пристрастных подозрений настоящее «анти-житие» Владимира Соловьева: в изображении этого церковного деятеля главный импульс всей жизни обвиняемого – непомерное тщеславие, сочетавшееся с «русской ленью» и склонностью к утехам. На нескольких страницах Антониевой филиппики чего только не умещается: «запойный алкоголизм», привычка «драпироваться» «во внешность Иоанна Крестителя», плагиат у почтенных предшественников, обращение ко «лжи, иногда вовсе бесцеремонной». По части идейной философу бросаются укоры, которые должны обличить в нем нестерпимого возмутителя спокойствия: «Погоня за славой <…> перегоняла его из лагеря в лагерь», он «никогда не имел твердых убеждений», «часто менял их», постоянно уклонялся «в сторону то одного, то другого учения, наряду с выражениями скептицизма и цинизма», пропагандировал взгляды «нравственного нигилиста Ницше», перемигивался «с дарвинизмом и революцией», а под конец, исписавшись, «стал бесцеремонно якшаться с революционерами и оплевывать свою родину»244.
Больше всего смущало – и даже возмущало, – видимо, то, что человек, чья высота и иноприродность («пророческий вид», «победа идейности над животностью», по словам его знакомца М.М. Ковалевского) бросаются в глаза и как бы обязывают к особому поведению, – что человек этот не выделяет себя из мирского быта, не чужд простодушным удовольствиям и развлечениям (любит проводить время, как сказал бы булгаковский Воланд, чуть ли не «в обществе лихих друзей и хмельных красавиц»), наконец, не брезгует злобой дня и немилосердной по отношению к своим противникам журнальной полемикой. Близорукие очевидцы ошибались, выискивая здесь непоследовательность, раздвоенность, темные загадки. Соловьев разделял черты быта своей среды, как ее гость, а не как ее член, и жил в чужом монастыре, не расставаясь со своим уставом. Но, действительно, занятое им место могло раздражать своей необычностью, неожиданностью – этой роли в статуте мирской и церковной России прежде не существовало вовсе, быть может, лишь пунктиром была она обозначена в «типе еще не выявившегося нового деятеля», в образе младшего из братьев Карамазовых. Это роль пророка в цилиндре и сюртуке. Такая фигура выглядела парадоксальной и неприкаянной. На ней не лежала печать церковного избрания и благолепия, а с другой стороны, она не умещалась в культурных представлениях общества, отринувшего религиозную опеку.
Между тем Соловьев предвосхитил общественную потребность в такой роли, чувствуя, что отрыв интеллигенции от христианства, а народной веры от просвещения приведет к катастрофе, если никто не возьмет на себя миссии посредничества. Его отважный, порой ведущий к нездравым проектам почин одними воспринимался как еретическое самочинство, другими – как старозаветный обскурантизм. «… Несмотря на всю ясность и твердость своих взглядов, он <…> возбуждал множество недоразумений. С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду, и они же яростно нападали на него, когда убеждались, что он не считает их правду безусловной. Кто только не считал его ренегатом! <…> В одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что как публицист он плыл без компаса. И, как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу»245.
Им двигало убеждение в наличии верховной правды и скорбь оттого, что она не торжествует в окружающем мире. «Быть или не быть правде на земле»246 – таков для него главный вопрос жизни и одновременно ищущей мысли. «<…> Как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу – из пламенной веры в смысл жизни. Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явными скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей»247.
Вопрос о судьбах правды – «быть или не быть» – Соловьев воспринял как обращенный к его деятельной воле, как собственную жизненную цель; он словно был рожден вместе с представлением о том, что земное бытие должно быть покорено высшей истине. Каким же путем этого достичь, он начинает думать с ранней юности, – и, знакомясь с письмами молодого Соловьева его кузине Е.В. Романовой (Селевиной)248, видим: уже в эту пору – в 1873 году – его мысль движется не тем курсом, что у большинства его сверстников-«семидесятников». «Сознательное убеждение в том, что настоящее сознание человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. <…> Но самый важный вопрос: где средства? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого».
Преобразование это хоть и мыслилось им не на путях насилия, но рисовалось в виде такой грандиозной ревизии, что Соловьева легко принять за радикального «отрицателя», который желал бы заменить проверенные устои бытия произволом своей новоявленной системы. Его близкой приятельнице Е.М. Поливановой Соловьев в эпоху первого творческого подъема запомнился горячо верившим в себя, «в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»249. Такой энтузиазм, при очевидной его привлекательности, может вселить подозрение, что жизненное дело Соловьева в своем отправном пункте было самонадеянной попыткой начать все с нуля.
Однако же этот реформатор, заявивший о совершенно новом подходе к устроению человечества, видел чаемый переворот не в том, чтобы устранить прежние начала существования, а в том, чтобы отменить их вражду, поставив их в должные отношения друг к другу. «Универсализм» и «синтез» – вот два непременных понятия, которые употребляет всякий, кто взялся охарактеризовать умственный мир и метод мышления Соловьева. «В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, наследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии <…>»; «Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере»250, – пишет Е.Н. Трубецкой, а брат его Сергей философскую универсальность Соловьева сравнивает с художественной универсальностью Пушкина251.
Мысль Соловьева как бы бросила вызов тому разделению, разъединению, которое в качестве изначального порока сопутствует процессам человеческой истории и культуры и, видимо, даже нарастает в них. Интеллектуальное просвещение разошлось с верой в абсолютные основания бытия, свобода оторвалась от истины как от своей положительной цели и увязла в области относительного, знание, соответственно, эмансипировалось от жизненного источника и замкнулось на постижении собственных законов; вплоть до враждебного противостояния разошлись исторические пути восточной и западной цивилизаций, в христианском мире произошел глубочайший вероисповедный раскол (схизма), национальное обособилось от вселенского, сословные и классовые интересы отмежевались от общечеловеческих. С присущей ему духовной отвагой Соловьев ринулся соединять края образовавшейся трещины, цементируя ее примиряющей мыслью. В открытой им перспективе просвещению, поднявшись над уровнем позитивизма, предстоит «оправдать веру отцов», сделать ее разумно осознанной: «цельному знанию» следует опереться на сердце и совесть, а не на один только рассудок (идея, унаследованная Соловьевым от ранних славянофилов и его учителя П.Д. Юркевича); «бесчеловечный Восток», сильный своим богопочитанием, но принизивший личность, найдет восполнение себе в «безбожном Западе», развившем зато необходимое начало индивидуальности; схизма, «великий спор» внутри исторического христианства, разрешится на путях отчленения второстепенных разногласий от единящей веры в Богочеловека; каждая национальность через уразумение своей особой миссии в семье народов вольется во вселенскую общность, не теряя лица; классовая и всякая вообще корысть смягчится под влиянием евангельских заповедей любви к ближнему, обратившихся в руководство социальной политики. Но и это великое примирение было бы в глазах Соловьева ущербным, если бы осталось в пределах человеческой истории и не охватило весь природный мир, избавив естество от тяжести, косности, разорванности во времени и пространстве. Венцом «великого синтеза» он мыслил распространение небесной гармонии на материальный мир, – и эта мечта о торжествующем «всеединстве» переживалась Соловьевым в связи с тайным зовом избранничества, надеждой, что он один из тех, кто «цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает».
Порыв к соединению разрозненных тем и идей культуры, вероятно, неизбежный в связи со специализацией знания и угрожающим ростом профессиональных перегородок, заметно окрашивал собой умонастроение века: и позитивисты-систематики, и теософы – составители «мировой религии» возводили свои варианты «синтеза» из наработанных человечеством разнородных вер, учений, научных теорий. Не того хотел Соловьев. Он не собирался получить некую общепригодную истину в результате сложения частных воззрений; он извлекал из них то, что принадлежало истине сверхличной, не изобретенной им, но ему открывшейся252. Поэтому предпринятый им «великий синтез» в принципе не есть эклектика: прежде, чем быть примирением, он проведен через очистительное рассечение (и в этом смысле напоминает «Сумму» Фомы Аквинского, которая, всё объемля, слагается, однако, лишь после вычитания того, что противоречит христианскому миропониманию). Это рассечение – как бы спасающий акт в отношении той правды, которая, согласно Соловьеву, присутствует в любом человеческом мнении хотя бы потому, что ложь, в отличие от истины, не может предстать обнаженной и при этом найти себе поклонников.
«Долг указать зерно истины» (собственное выражение Соловьева) распространялся им на все феномены, попадавшие в его горизонт независимо от степени близости; будь то дарвиновский эволюционизм, или социализм, или ницшевский сверхчеловек, или «Верховное существо» Огюста Конта, или эстетика действительного у Н.Г. Чернышевского, или либерализм кружка «Вестника Европы», – не говоря уже об античном неоплатонизме, немецком идеализме и о славянофильстве его старших современников. Оттого-то и предъявлялись ему обвинения в отсутствии твердых убеждений. Его последователь кн. Е.Н. Трубецкой отлично понимал как неизбежность, так и несостоятельность подобных претензий, в которых выражалось непонимание сверхзадачи Соловьева: вырвать из рук лжи и сберечь для «всеединства» каждую крупицу онтологически подлинного. «Не удивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных миросозерцаний. Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе»253.
Свой метод – примирителя, действующего рассекающим мечом, – сам Соловьев в докторской диссертации по философии назвал «критикой отвлеченных начал». Отвлеченные, то есть извлеченные из равновесия с другими принципами, эти «начала» как бы сорваны с подобающих мест в иерархии бытия и возведены той или иной системой мысли в ранг абсолютных. Но лишив их роли идолов-абсолютов, можно восстановить их относительную истинность, а значит и неподдельную ценность. «Он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного <…> и это тотчас заставляло его противоречить, т.е. выдвигать ту сторону истины, которая заключается в воззрении противоположном». Но «тот самый универсализм, который заставлял Соловьева восставать против идолов, обусловливал его чрезвычайно высокую оценку относительного. В его глазах относительное только тогда становится ложью, когда оно возводится в безусловное, становится на его место; напротив, относительное, утверждаемое как таковое, составляет необходимую часть целой, вселенской истины»254.
Как не раз отмечали историки мысли, с Соловьева, собственно, и началась в России философия в европейском смысле слова, иначе говоря, философия, критически осознающая свои предпосылки. По справедливому наблюдению его биографа, он ввел русскую мысль, питающуюся «духовными созерцаниями» патристики, в послекантовскую эпоху, соединив таким образом догматический и критический моменты философствования, первый – «без принижения требований рассудочного сознания», второй – «без ущерба для всесторонней полноты человеческого духа»255.
Из всего сказанного выше очевидно, что свою примирительную миссию и задачу «великого синтеза» Соловьев меньше всего представлял осуществимыми на пути формального компромисса и безразличной уступчивости. Поэтому его общественная, равно как и философско-просветительская проповедь, направленная на погашение всяческой вражды, всегда вызывала враждебное противодействие и устремлялась против течения, точнее – против главных течений, сменявших друг друга при его жизни.
По словам Е.Н. Трубецкого, он «обрушивался всеми силами против того идола, которому наиболее поклонялись в среде, где он в данное время жил». (При этом рассказчик имеет в виду даже и непосредственное житейское соседство, в которое попадал Соловьев.) «<…> Перемена местопребывания не оставалась без влияния на его полемику. Его полемические статьи против славянофилов, М.Н. Каткова и иных эпигонов славянофильства относятся большею частью к тому времени, когда он проживал преимущественно в Москве, часто сталкиваясь с деятелями Страстного бульвара и вообще с националистами. Напротив, его известная статья “Византизм и Россия”, близкая к славянофильству по своей положительной оценке неограниченного самодержавия, была написана в то время, когда он вращался преимущественно в либеральных западнических кругах в Петербурге. Статья была напечатана в “Вестнике Европы”, который в данном случае сыграл роль унтер-офицерской вдовы из “Ревизора”. Соловьев заслужил горячие похвалы от “Московских ведомостей”, незадолго перед тем его распинавших»256.
Но, конечно же, та или иная позиция противостояния, которую занимал Соловьев, определялась не временными пристанищами бездомного философа, а историческим временем, с духом которого ему выпало сразиться. То был дух нарастающего центробежного экстремизма, разрывавшего общество в левом и правом направлении. То была эпоха, когда традиционализм стал нетворческим и жестоковыйным, а свежие силы общества – воинственно антитрадиционными и разрушительными.
Соловьев принадлежал к поколению семидесятников и, выйдя на свое поприще, обращался преимущественно к ним. Его поколение стало полем битвы между идеалами Достоевского – автора «Дневника писателя», адресованного в значительной мере молодой России, и народническо-социалистическим направлением, представленным громкими тогда именами П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. Преобладание оставалось за последними, поскольку их атеистический материализм окружен был ореолом передовой научности, – и перед Соловьевым, младшим единомышленником автора «Дневника…», сразу же встало сплоченное и духовно чуждое ему большинство.
Лукьянов находит у Д.Н. Овсянико-Куликовского чрезвычайно удачную характеристику, этого господствующего «типа семидесятника»257, в котором моральный энтузиазм служения народу сочетался с псевдонаучным социологизмом и авантюризмом политических заговорщиков. Соловьев по своему психическому складу сам был столь же воодушевленным идеалистом-общественником (а в отрочестве и ранней юности отдал несколько лет «отрицательному направлению»), и в первых же публичных обращениях к своим современникам он предпринимает попытку перенаправить скопившуюся в обществе нравственную энергию в новое русло – «влить струю христианской веры в сердца представителей прогрессивной мысли в России» (этой формулой у биографа Соловьева В.Л. Величко определена «главная практическая цель» всей его деятельности258).
С этой поры, исполняя задачу просвещения, Соловьев втянулся в многоактную драму с однотипными коллизиями: всякий раз он приглашает инакомыслящего соединить правду своих убеждений с вселенской истиной, пожертвовав при этом их ложной стороной, – и всякий раз после такого призыва к «перемене ума», к обузданию своего идейного пристрастия перед философом запирается дверь, в которую он стучался. Дверей было столько, сколько в тогдашней России наличествовало общественных сил.
Сценой для первого акта послужил публичный диспут на защите магистерской диссертации Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874). Здесь не просто выявились его философские противники по академической линии (В.В. Лесевич, С.В. Роберти, отчасти К.Д. Кавелин), а выплеснулось противодействие радикального лагеря, для которого позитивизм был знаменем «отрицания». В частности, Михайловский объявил молодого соискателя дремучим ретроградом, который ради своих религиозных суеверий попирает аксиомы положительной науки, гарантирующей верный путь к лучшему будущему. Таким образом, на первый же шаг Соловьева, еще, собственно, не выходящий за пределы теории, сразу враждебно отозвался неоспоримый лидер влиятельной группировки, ставший отныне постоянным противником философа в споре о духовном выборе России259.
Не надо думать, что каждый раз слово Соловьева падало исключительно на каменистую почву. Так, на своем диспуте он встретил приветственный отклик среди аудитории, восхищавшейся самим ристалищем, блеском мысли и речи героя дня; «было нечто молодое в этом настроении <....> в смысле чистоты души и первой умственной жажды», – цитирует С.М. Лукьянов свидетельство Н.Н. Страхова260. Еще до этого события, в 1873 году, Соловьев познакомился с Достоевским, к которому он, несмотря на разницу в возрасте, обратился «на равных» – как к общественному деятелю, единственно способному понять его задачу261. В дальнейшем знакомство перешло во взаимообогащающую дружбу, которая длилась до конца дней писателя, так что смерть Достоевского осиротила Соловьева, но не прервала этого идейного союза – одного из немногих уцелевших в череде принципиальных столкновений философа со средой.
Надежда на общественное понимание могла также возникнуть у молодого Соловьева в годы борьбы балканских славян за независимость и русско-турецкой войны, когда социальная жизнь в стране консолидировалась вокруг идеальной цели, вокруг новой, освободительной роли России и, как казалось тогда Соловьеву, вокруг ее посреднической миссии между Востоком и Западом. Сказанная им в заседании Общества любителей российской словесности речь «Три силы» (1877), где утверждалось вселенское религиозное призвание России, прозвучала в унисон с тем подъемом, который испытывала молодежь, добровольно идущая на войну (тогда, кстати сказать, стали сестрами милосердия две близкие Соловьеву девушки – Е.В. Романова (Селевина) и Е.М. Поливанова262).
Однако магистраль этого и последующих десятилетий пролегала таким образом, что всё, готовое откликнуться на проповедь Соловьева, оказывалось на обочине, а силы, определяющие исторический путь, выдвигали навстречу ему одного противника за другим. Альтернативу, которую Соловьев предложил обществу в своих «Чтениях о Богочеловечестве» зимой-весной 1878 года (символично, что «Чтения…» начались через день после покушения Веры Засулич на генерала Трепова и завершились одновременно с окончанием ее процесса), – отвергли как левые, все усиливавшие свою террористическую борьбу с властью вплоть до цареубийства 1 марта 1881 года, так и правые, в лице слушателя «Чтений…» Победоносцева уже в этот момент опознавшие в лекторе опасного модернизатора православной веры. Так, симметрично лагерю Михайловского, вооружается против мыслителя лагерь К.П. Победоносцева – В.П. Мещерского, и борьба с этим станом за свободу совести заполнит собой один из продолжительных актов жизненной драмы Соловьева.
Кульминация драмы – это вмешательство Соловьева в смертельную схватку между революционным террором и самодержавием, когда он обратился с увещевательным словом сразу к обеим сторонам, пытаясь вдохнуть в каждую из них веру в чудо примирения и пророчески предупреждая о необратимости момента. Мало кто отмечает, что в марте 1881 года Соловьев произнес не одну, а три речи, касающиеся первомартовского события. Он выступил перед молодежной аудиторией (13 марта на Высших женских курсах, а также в Петербургском университете) с метафизическим и моральным осуждением террора как возврата в «зверское состояние»263, а 28-го в зале Кредитного общества прочитал лекцию, которая была обращена не только к присутствующим, но, по сути, и к престолонаследнику. Текст этой легендарной лекции не сохранился, и изложение ее существует в разных передачах264. По ряду оснований265 нам представляется наиболее адекватным свидетельство тогдашнего студента Н. Никифорова. Как сообщается в его воспоминаниях, Соловьев говорил: «… как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. “Помазанник Божий”, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, вспомнив, о душе преступников и передав их в ведение церкви, единственно способной нравственно исцелить их <…>»266. Небывалый нравственный акт, идущий сверху, от царя как ревнителя веры, смог бы, по мысли Соловьева, предотвратить кровавую гражданскую войну в России и стал бы исходным образцом «христианской политики», преодолевающей разделение между личной и политической моралью. Надо ли напоминать, что речи Соловьева оказались гласом вопиющего в пустыне, но, как засвидетельствовало то же будущее, нежелание его услышать было куда менее благоразумным, чем его кажущееся донкихотство.
Отныне, отторгнутый официозными охранителями, Соловьев вскоре изгоняется уже из самого родственного ему круга, к которому он тоже обратился с инициативой, непереносимой для недавних единомышленников. Этим кругом, более того, его гнездом были при начале пути Соловьева старшие славянофилы – Аксаковы, Киреевы, газета «Русь», Славянский комитет в Москве. Их-то он понуждал додумать заветную мысль о русском призвании в мире. По логике Соловьева («Великий спор и христианская политика», 1883), на земле Правда не может победить без преодоления розни внутри ее самой, и Россия – могущественная православная страна, не поглощенная до конца «византизмом», должна начать дело воссоединения восточной и западной Церквей, увидев, наконец, на противоположной стороне не одни только заблуждения. Это было сочтено изменой отечественным политическим интересам (упирающимся в панславизм), равно как и религиозным идеалам («русской вере»). Взаимное непонимание сторон обозначилось тут не только в конкретном вопросе о «великом споре» (двух Церквей), но и в вопросе «христианской политики» (то есть политики, руководствующейся христианской моралью267). Для Соловьева выбор в пользу «естественных интересов», а не «высшего призвания» был чистейшим язычеством, а безусловная защита религиозного традиционализма свидетельствовала об эгоистической привязанности к своему в ущерб истинному. Славянофилы же обвиняли Соловьева в оторванности от почвы, от коренных нужд страны, а значит, в недостатке «любви к ближнему» и, более того, в подрыве православия, тождественного народному телу России268. «Грех славянофильства, – подытоживал Соловьев несколько позднее, – не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще больше возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает»269. В сущности, Соловьев в ходе полемики поставил вождей тогдашнего славянофильства перед выбором между христианским универсализмом и национальной идеей, связанной с христианством лишь относительными узами. Оппоненты Соловьева, в особенности же те, кто наследовал уходящим со сцены маститым деятелям, выбрали второе, полностью уступив своему противнику мечту о «всебратской» миссии России. Отныне семейный спор со славянофилами переходит в тягчайший для душевного мира Соловьева поединок с «национальной партией» Н.Н. Страхова, М.Н. Каткова, А.С. Суворина. Его пророческое одиночество достигает предельного напряжения, и тылом его оказываются «попутчики» – люди и группировки, равнодушные к его духовным целям.
Внешний ход этих перемещений уловлен в очерке Е.Н. Трубецкого: «Пока оно (славянофильство. – Р. Г., И. Р.) было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в идолопоклонство – он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве»270. Однако суть дела была более трагической: свои не познали своего, а союз с «чужими» – с либералами-западниками из «Вестника Европы», с зарубежными католическими кругами – не шел дальше общности в защите гражданских прав и свобод, в борьбе с официозной политикой Синода. Но и тут Соловьев не удержался в границах злобы дня и отважился поднять эти вопросы на метафизическую высоту, обратившись вновь к единоверцам – на сей раз не с увещеванием, а с обличением. Неслыханный вызов, прозвучавший в реферате «Об упадке средневекового миросозерцания», прочитанном в 1891 году перед аудиторией Московского психологического общества, заключался в том, что Соловьев отказывался признавать связь между христианской жизнью и принудительным укладом, исторически для нее традиционным, и предлагал связать ее с ценностями либерализма, которые до сих пор считались внехристианскими и даже враждебными Церкви. Он едва ли не впервые в истории очертил получившую будущность в XX веке программу социального христианства, которое берет ответственность за благоустройство общественной и природной жизни. Хотя Соловьев, как и десять лет назад, увлек своим порывом часть публики, его выступление было неприятным сюрпризом для тех либеральных союзников, кому вопросы веры казались простым балластом, охранители же, которым «реферат» адресовался в первую очередь, пришли в ярость, найдя в нем нечестивый бунт против освященного порядка.
Присутствовавшая на лекции сестра философа М.С. Безобразова так описывает реакцию зала: «Взрыв бешеных аплодисментов с одной стороны, несмелое, невнятное шипенье с другой.
– Пророк, пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.
– Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается… Против правительства, против законного порядка… Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих, красных ищет… Чересчур смел – надо бы ему рот закрыть…»271.
Одиночество Соловьева усугубляется – после реферата его покидает в гневе последний друг и восторженный поклонник из правохристианского лагеря, К.Н. Леонтьев; до этого соловьевское тяготение к католичеству Леонтьева нисколько не смущало, признания же относительной правды за либеральным гуманизмом он вынести не смог. Ужаснувшись поступку Соловьева: «К кому он пойдет теперь?» – Леонтьев этим восклицанием довольно точно охарактеризовал положение Соловьева после очередного разрыва с окружением.
Леонтьев оказался прав – как в том, что новую соловьевскую проповедь «иезуиты не примут»272, так и в том, что религиозно индифферентные прогрессисты не станут последней пристанью христианского мыслителя. «Три разговора» и включенная в них «Краткая повесть об антихристе» (1899—1900) свидетельствуют, что Соловьев к этому времени уже не ищет «имеющих уши» последователей среди современников и как бы через головы их обращается в будущее, предупреждая об относительности и ненадежности прогресса, о нарастании в мире зла, против которого достижения цивилизации сами по себе бессильны. Здравомыслящие либералы-позитивисты теперь получают все основания, чтобы отнестись к нему как к отступнику. Лукьянов приводит характерную для этого круга оценку пути Соловьева, высказанную К.А. Тимирязевым: вся его «деятельность представляет три полосы: начальную, мистико-метафизическую, вторую, к сожалению слишком кратковременную, – критико-публицистическую и третью – снова метафизическую с еще большим оттенком мистицизма. <…> мистический туман снова стал заволакивать эту светлую голову, – мы услышали побасенки про антихриста»273.
Это был финальный акт в драме одиночества Соловьева, закончившейся его ранней кончиной на грани двух веков. Но есть и перспективный эпилог: немногочисленная плеяда ближайших друзей и последователей все-таки окружала философа в последнюю, предсмертную пору его трудов. Здесь было посеяно зерно, из которого выросла русская философия XX века, чье просветительное слово разнесется по всему миру. Несмотря на изоляцию Соловьева среди современных ему враждующих партий, после его смерти стало обнаруживаться, что он явился плодотворным посредником между провúдениями Достоевского и мыслью, рожденной в катастрофах нового столетия, и что наследство его, пусть и не вполне понятое, ощутительно присутствует в дальнейшей жизни общества. Этим, в частности, был недоволен цитированный выше архиепископ Антоний: «Вся плеяда наших профессиональных лжецов: братьев Трубецких, Розановых, Петровых, Семеновых, вся эта наперебой лгущая компания – плоды соловьевской декадентщины и, по большей части, его ученики и приятели»274. Набор имен – наряду с Трубецкими и В.В. Розановым, досаждавшим тогда критикой церковных установлений, «левый» священник Г.С. Петров и поэт-символист, мистический народник Л.Д. Семенов – тут достаточно случаен и определяется текущим днем. Но момент сдвига и развития в религиозно-философской мысли, которая возвращалась тем самым в состав мысли общественной, – этот творческий момент, несомненно, уловлен, хотя и недружелюбным оком. Без этого выхода из неподвижности, инициированного Соловьевым, не было бы и той «действительной заслуги», за которую его все-таки хвалит суровый оппонент, признавая за ним «высокие идеи исправления полуязыческой европейской культуры началом моральным»275.
Задача подобного «исправления» представлялась Соловьеву, настолько безотлагательной, что – в виде эксцессов, углублявших драматизм его судьбы, – толкала его к глобальным утопическим замыслам. Чувствуя подземные толчки истории, Соловьев спешит собрать мир под крышей христианства и не останавливается перед апелляцией к внешним организационным средствам достижения мировой гармонии. Речь идет о неожиданной – к концу 80-х годов – перемене ракурса в вопросе о соединении Церквей и преодолении раскола между православием и католичеством.
В книгах «История и будущность теократии» (1887) и «Россия и вселенская церковь» (1889; по цензурным условиям была издана во Франции: «La Russie et I’Eglise Universelle») мысль Соловьева соединяет обе половины христианского мира, Восток и Запад, на новый лад: вероучительная, собственно церковная сторона представлена у него римским первосвященником, мирская власть со всей ее геополитической мощью – русским православным царем, вверяющим себя духовному водительству папы; но притом такая массивная двуединая высшая власть должна сообразовываться и с духом свободы, чьим выразителем оказывается третье лицо земной «троицы» – пророк, так сказать, харизматический вождь христианской общественности. Несмотря на сказавшуюся и здесь верность Соловьева либеральным приобретениям Нового времени («пророк», обеспечивающий соблюдение прав человека), это мироустройство восходило к средневековым представлениям о «священной империи»276 (недаром Соловьев как раз тогда увлекался трактатом Данте «О монархии»), и выношенная мыслителем еще со времени «Чтений о Богочеловечестве» идея «теократии» (боговластия) из сверхисторической, запредельной цели, по существу, превращалась в посюстороннюю задачу установления всемирного государства. Любопытно, что Константин Леонтьев с его имперскими идеалами и ненавистью к либеральному уравнительству сразу зажегся этим фантастическим планом, отмахнувшись от «сентиментальных» обещаний всеобщего примирения, но высоко оценив открывающуюся за ними перспективу – сделать Россию орудием приведения мира к железному порядку: «… Скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки, как советует нам зря Вл<адимир> Серг<еевич>, а положут лоском всю либеральную Европу к подножию папского престола: дойдут до ступеней его через потоки европейской крови». И тогда, продолжает Леонтьев, «скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном” <…> на это ответят: “Тем лучше. Это трогательно”»277.
Сам же Соловьев, разумеется, не предполагавший проливать ради осуществления своего проекта «потоки крови», взялся хлопотать о нем в качестве одного из исполнителей будущей триединой власти перед двумя другими – папой и русским императором. Нужно ли говорить, что эти немыслимые хлопоты были тщетны, но можно также быть уверенным, что отмечаемое всеми биографами разочарование Соловьева в своем замысле всемирной теократии произошло не исключительно под влиянием такого неуспеха, – неотделимость христианства от свободы, как ведущий принцип мировоззрения, перевесила в душе реформатора соблазн скорейшей гармонизации мира извне. В литературе о Соловьеве преобладает мнение, что разочарование это привело его к полнейшей катастрофе, к отказу от взгляда на историю как на осмысленный поступательный процесс и к мрачным пророчествам о близком конце бессильного человечества, совершенствовать которое невозможно, да и не нужно.
Однако на самом деле Соловьев вышел из испытания, связанного с заманчивой и несбыточной реорганизацией мира, не сокрушенным, а очистившимся. Он ищет и в поздние годы находит новое соотношение между временным и надвременным, между повседневным делом христианской цивилизации и эсхатологическим завершением истории. В мае-июне 1896 года он пишет своему французскому корреспонденту католику Евгению Тавернье: «Надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее —справедливость<…>»278. И тут же Соловьев излагает новый «план христианской политики» в свете евангельских пророчеств о конце мира. Человечество, рассуждает он, должно быть подготовлено к последнему противостоянию добра и зла в том смысле, чтобы каждый человек мог сознательно и свободно совершить свой выбор за или против Христа. А значит, существует поле конкретной деятельности «для настоящей концентрации христианства» – создание условий как в сфере общественной жизни, так и в области умственного и духовного просвещения, при которых такой личный выбор не мог бы оказаться плодом недоразумения или случайности. По мысли Соловьева, победа христианства в метаистории, обещанная в Новом завете, не предполагает «пассивного ожидания» и не будет просто результатом внешнего чуда, «актом божественного всемогущества», «ибо в таком случае вся история христианства была бы излишней»279. Как видим, в конце жизни Соловьев освобождает свою заветную идею Богочеловечества – взаимодействия человечества с Богом – от бесконфликтного благодушия и придает ей высшее напряжение перед последним актом истории: «Очевидно, что Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве»280. Напомним также, что предсмертная апокалиптическая «Краткая повесть об антихристе», в которой принято видеть полный отказ от участия в истории, включена Соловьевым в сочинение «Три разговора», где ведется речь о проблемах мирского общежития, полемика с Львом Толстым по вопросу о непротивлении, обсуждение ближайших международных прогнозов и т.п., интерес к чему был бы бессмыслен, если бы Соловьев не ставил развязку истории в некую зависимость от всех этих забот.
Изживаемый Соловьевым утопизм питался из двух источников, возможно, характерных для русского национально-исторического сознания вообще. Первый из них – нетерпеливое желание встретиться лицом к лицу с правдой без отсрочек и промежуточных ступеней. Эта черта Соловьева видна даже в его ранних оккультно-спиритических увлечениях, позволявших, как ему чудилось, непосредственно удостовериться в сверхъестественной реальности, «Обрадовавшись, что нашел метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в спиритизм», – иронизировал по этому поводу Страхов в письме к Л.Н. Толстому281. И, конечно, торопливое составление схем вроде теократической «троицы» исходило не столько из рационалистического склада его ума, сколько из жажды отыскать быстродействующие рецепты для воцарения правды. Вторым источником того же уклона в утопизм можно было бы назвать «метафизическую доверчивость», то есть неготовность к действенному присутствию злой воли в космической и человеческой жизни. В ранних построениях Соловьева недолжное состояние мира есть результат нарушения бытийственной иерархии, следствие ложной перестановки ее элементов, что поправимо на путях природной эволюции, к коей на последнем этапе подключается человечество. Человеческая история хоть и чревата срывами, но движется не трагическим путем. После крушения теократической мечты перед взором Соловьева, так же как перед взором героя его позднего сочинения – Платона, «раскрылась бездна чистого, беспримесного зла»282, безусловного злого начала, действующего в истории. Но в отличие от античного философа, который понадеялся изгнать зло из человеческого общежития при посредстве тоталитарной утопии, Соловьев на полпути отказался от подобного выхода. Его завещанием стали не «Законы» и «Государство» (как у Платона) с их образцовой несвободой, а «Оправдание добра» и «Краткая повесть об антихристе», где обнаруживается и трагическая глубина грядущего поединка со злом, и ценность любого малого шага к добру, свободно совершаемого в повседневности.
Проповедь Соловьева имела глубокие корни в том, что открывал и удостоверял ему внутренний опыт. Торжество гармонии было для него не отвлеченной идеальной целью, а непосредственным переживанием, даже предметом созерцания, порой невыносимо контрастирующим с плоскостью окружающей жизни. «Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности сама по себе совершенно не интересует». «Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит на себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего»283. Подобно герою Платоновой притчи о пещере, он жил своими мистическими встречами с высшей реальностью во всем совершенстве ее форм, «верил в ближайшее соседство надземного мира»284, и эмпирика бытия представлялась ему сразу и мертвенно-косной и призрачно-бледной. «Я не только верю во все сверхъестественное, – писал молодой Соловьев Н.Н. Страхову, – но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человечества, которое давит домовой»285. «По сравнению с нездешним миром, наполнявшим его душу, – как бы подхватывает ту же мысль Е.Н. Трубецкой, – наша жалкая действительность вызывала в нем или скуку или грусть, а иногда – настроение, близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом»; «казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положения и случаи, которые в других вызывают только улыбку»286. О смехе Соловьева, заразительном, стихийном, даже «неистовом» («впереди него, если можно так выразиться, катился его неистовый смех»287), – вспоминают едва ли не все, знавшие философа.
Одни называют этот смех детским, другие – загадочным, а третьи ищут в нем оттенок двусмысленности. Но разгадку найдем у самого Соловьева, в его самобытной теории смеха, о которой мы узнали благодаря Е.М. Поливановой, записавшей его лекцию на Высших женских курсах в Москве, и Лукьянову, опубликовавшему в своей книге этот замечательный конспект. «… Характеристическая особенность человека, – неожиданно сообщает Соловьев, – заключается в том, что один человек имеет способность смеяться. Эта способность чрезвычайно важна и лежит в самом существе человеческой природы, а потому я определяю человека как животное смеющееся. …Человек рассматривает факт, и, если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики. …Человек может быть также определен как животное поэтизирующее и метафизирующее». И далее Соловьев изображает «человека смеющегося» стихийным платоником, который как бы от рождения помнит, что подлинный мир – не здесь. «…Человек принадлежит двум мирам: миру физическому, который к нему ближайший и который он считает призрачным, и миру истинно сущему, который не есть данный, но только требуемый и желаемый. <…> Животные принимают мир таким, каков он есть, для человека же, напротив, всякое явление есть только маска, за которой он ищет неведомую богиню»288.
Среди свидетельств о соловьевском «смехе» можно найти и такое, где связь его с философским идеализмом выражена еще парадоксальнее. Старший знакомый Соловьева И.И. Янжул вспоминает, как тот расхохотался при рассказе о нелепой гибели рабочих, очищавших канализацию. На недоумение, что же здесь смешного, Соловьев заметил: «… здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить <…>»289. Разумеется, в этом демонстративном хохоте заключалось больше вызова солидному собеседнику, чем равнодушия. Но, вообще говоря, платоническое пренебрежение к здешнему миру «призраков», действительно, соперничало в душе Соловьева с христианским приятием мира – падшего, но достойного спасения. Верх при этом одерживала христианская интуиция. Между безразличием мудреца-идеалиста платоновского толка и «чудачествами» надмирного Соловьева существует, по словам Е.Н. Трубецкого, «резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, как говорит Платон, “чуждым семенем”, случайным гостем в здешнем мире. Его идеал – полнейшее отрешение, бегство от земли. <…> Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к “земле-владычице”. Цель и конец его поэтического и философского вдохновения – не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного божественным»290.
«Преображение» – этим словом для Соловьева выражается главное задание по отношению к земле, природе, материи. «Кажется, ни у кого из современных Соловьеву христианских мыслителей не было в такой мере выдвинуто положение, что “мир во зле лежит”, и это, несомненно, давало его системе ее захватывающую широту и ее прочувствованную серьезность»291, – замечает Л.М. Лопатин. Но для Соловьева это не значит, что мир затронут злом по существу, ибо в прообразе он всеедин, совершенен и прекрасен, как прекрасна София Премудрость Божия, олицетворение этого прообраза, предносившееся Соловьеву в таинственных созерцаниях292. Ужасен же мир только в своем преходящем состоянии, которое рисовалось мифопоэтическому воображению философа в виде мук «мировой души», всей стенающей твари, рвущейся ввысь, навстречу Софии – своему небесному двойнику.
Один из последователей Соловьева Г.А. Рачинский пишет: «Для Соловьева вся история космической жизни была одной великой драмой борьбы и страданий мировой души, раздираемой хаосом качественно различного, раздробленного и распавшегося природного бытия, с его множеством обособленных и борющихся за свою эгоистическую обособленность, взаимно самоутверждающихся в своей исключительности начал»293. Эту мятущуюся одушевленность сущего Соловьев прозревал «под грубою корою вещества», и все, что наполняет мир, представлялось ему только внешне порабощенным и омертвленным, но живым в своем самобытии и ждущим вызволения. «Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева294: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса – “все полно богов”. Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы – в движении волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственною жизнью леса и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой – средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные. <…> В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь – корень того необычайного подъема душевного, который вызывается у него созерцанием ее красоты <…>»295.
Красота – удостоверение присутствующего в непостоянной земной жизни божественного света и наглядное обещание, что мир может быть совершенным. Соловьев, по замечанию одной тонкой наблюдательницы, «опьянялся красотой». Ибо красота была для него не просто услаждением внешних чувств, а «иносказанием» небесной гармонии, собирающей мир в живую целостность. В его опьянении красотой выражал себя платонический эрос, устремленный к двум посюсторонним символам Софии – «образу возлюбленной или родины» (замечает в своем капитальном исследовании Е.Н. Трубецкой)296.
Мировой процесс со всеми его ступенями трактуется в эстетических сочинениях Соловьева («Красота в природе», 1889, «Общий смысл искусства», 1890) в виде восхождения к красоте как абсолютной норме бытия. «… Развитие природы для него – беспрерывно совершающееся, а потому – несовершенное и незаконченное откровение иной, сверхприродной действительности»297. Соловьев даже в годы зрелого творчества дорожил доставшейся ему от юношеского «дарвинизма» идеей естественно-исторической эволюции, поскольку здесь ему виделся залог того, что природный мир живо, хоть и неосознанно, откликается на поставленную свыше задачу совершенствования. Как на продолжение того же процесса смотрел он на человеческую историю: в центре ее – явление Богочеловека, не только «сшедшего с небес», но и вызванного на землю ее собственным развитием298, а в финале, к которому приведет богочеловеческое сотрудничество, – преображенная по образу красоты вселенная.
Что же это? Безумная задача? Несбыточная надежда? И не согласился ли он сам на роль Дон Кихота и поэтического фантазера, заранее объявив, что цели его «неблагоразумны»? Но ведь оповещал он тут не о романтическом произволе и не о своевольном изобретательстве. Неблагоразумие это открывало горизонты, скрытые от мудрости «века сего», оставаясь в границах которой человечество рискует провалить свои ближайшие дела и сбиться в выборе текущих решений.
Близкие к Соловьеву люди считали порой, что он обрек себя на заведомое непонимание; восхищались его независимостью, но скорбели о ее неизбежных последствиях. Л.М. Лопатин писал: «… его философские идеи для огромного большинства русского образованного общества оставались закрытою книгою. В них скорее видели выражение чудачества очень капризного, хотя и очень большого ума, нежели серьезное порождение философской мысли <…>»299. (Если не чудачество, то необъяснимую странность находил в Соловьеве и Розанов, вовсе не представитель «огромного большинства».) В очерке Е.Н. Трубецкого читаем: «…он был, есть и остается до сих пор непонятым почти всеми. … Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие»300.
Все эти грустные соображения, однако, не должны смущать тех, кто сегодня обращается к Соловьеву, как не смущали они его самого. Проходит время, делает скачок, – и признание непонятого мыслителя «несомненно самым блестящим, глубоким и ясным философом-писателем в современной Европе» (К. Леонтьев)301 уже не выглядит причудой чьего-то эксцентрического ума, а, напротив, – справедливой и основательной оценкой. Выясняется, что главные предвидения Соловьева оказались вещими, а пути, им предложенные, – не только не опровергнутыми историей, а, быть может, единственно неутопическими.
Но все-таки слова о «неблагоразумии» сказаны Соловьевым не зря. Всякий, кто хотел бы последовать за ним в его жизненном деле, должен приготовиться к тому, что позицию его сочтут странной, иррациональной, чуть ли не лукавой. Ведь такая позиция должна выходить за пределы партийных идеологий и частных интересов, руководствоваться которыми общепринято. Мало того, ей нельзя не возвышаться над трезвыми решениями, обеспечивающими кратковременный успех, но ведущими к духовному поражению. И нельзя не руководиться верой в невозможное и чудесное, если оно предстает как прекрасное – сердцу и как должное – совести.
237
Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы… Кн. 1—3. М., 1990. Подробные сведения о биографе Соловьева можно получить из очерка А.А. Носова «Большой и бескорыстный труд» (Кн. З. С. 297—316). 12 1
238
См. об этом в воспоминаниях Н.В. Давыдова в его кн.: Из прошлого. М., 1917. Ч. 2. Гл. 3.
239
Кн. Е.Н. Трубецкой так описывает национальную черту странничества, присущую Соловьеву (и тем паче – Г. Сковороде): «Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители» (Трубецкой Е.Н. Личность Вл. С. Соловьева // О Владимире Соловьеве: Сб. I. М., 1911. С. 73); этот очерк с небольшими разночтениями вошел в качестве 1-й главы в двухтомное исследование: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913; современное переиздание в 2-х т. М., 1995. Т. 1. С. 42—43).
240
См., в частности, интересную статью Г. Кругового «О жизненной драме Владимира Соловьева» (Мосты. 1962. № 9).
241
Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 7. СПб., 1912. С. 199.
242
Петровский А.Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. Кн. 56 (1). С. 39.
243
Безобразова М.С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Минувшие годы. СПб., 1908. № 5/6. С. 128; то же: Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 77.
244
Антоний (Храповицкий), архиеп. Ложный пророк // Антоний (Храповицкий), архиеп. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1911. С. 184—189.
245
Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. № 56 (1). С. 107.
246
Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 9. СПб., 1913. С. 216.
247
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 50—51. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. М., 1995. Т. 1. С. 20.
248
Соловьев В.С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 56—106.
249
См.: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 3. С. 55.
250
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 65, 34.
251
Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева… С. 94.
252
Уже для молодого Соловьева в этом вопросе существовала полная определенность. Достаточно вспомнить эпизод, приведенный в кн. 2-й труда Лукьянова, где сообщается о пламенном чтении Соловьевым символа веры в заключение доклада на собрании кружка Н.И. Кареева (с. 41).
253
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 68. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 38. 1 30
254
Там же. С. 68.
255
Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 1. С. 410. 1 3 1
256
Трубецкой Е.Н. Личность Вл. С. Соловьева… С. 67—68. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 37.
257
Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 2. С. 36—39. 1 32
258
Величко В.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1903. Цит. по: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 1. С. 412.
259
См. набросок Соловьева «Несколько слов по поводу “жестокости”», написанный в ответ на посвященную творчеству Достоевского статью Н.К. Михайловского «Жестокий талант» (Новый мир. 1989. № 1. С. 204—208; публикация Р. Гальцевой, И. Роднянской). То же: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. Сост. Р. Гальцева, И. Роднянская. М., 1991. С. 265—271. 1 33
260
См.: Лукьянов С.М. Указ изд. Кн. 1. С. 431.
261
Отсылаем читателя к письму, которое двадцатилетний Соловьев отправил еще лично незнакомому Достоевскому, откликнувшись на курс «Гражданина», редактируемого писателем, где также печатался его «Дневник». В письме (Лит. наследство. Т. 83. М., 1971. С. 331), в частности, говорилось: «Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно как всякий протест против лжи. <…> Поэтому я считаю возможным доставить вам мой краткий анализ отрицательных начал западного развития». Судя по всему, Соловьев предлагает здесь редактору «Гражданина» текст вступительного слова, которое собирался произнести на диспуте. Оно было напечатано в № 48 еженедельника за 1874 г. Подробнее об этом эпизоде – в нашей работе «Владимир Соловьев и Ф.М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов» (с. 73 настоящего издания).
262
В письме Соловьева к последней от 25 сентября 1877 года звучит вера в открывающийся путь – в новый духовный этап мировой истории: «Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое соединит очень многих. <…> Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога» (ОР РГБ. Ф. 700. К. 2. Л. 58). 1 34
263
«… насилия современной революции выдают ее бессилие <…> и если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности» (Соловьев В.С. Полн. собр. соч. В 20 т. Т. 4. М., 2011. С. 266; см. там же содержательные примечания И.В. Борисовой: С. 667—675).
264
С версией П.Е. Щеголева современному читателю проще всего познакомиться по перепечатке в журнале «Наше наследие» за 1988 г. (№ 2. С. 78).
265
Об этом см. в нашей упомянутой выше работе «Владимир Соловьев и Ф.М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов» (с. 100 настоящего издания). 1 35
266
Никифоров Н. Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев // Вестник Европы. 1912. № 1. С. 183. Высказанное здесь отношение Соловьева к возмездию прямо противоположно реакции Победоносцева на те же события: «И кажется, когда бы мстить мечом, когда встать и спасать себя и все, можно ли ждать так долго?» – жалуется он на мягкотелость царя (из письма от 11 марта 1881 г. к Е.Ф. Тютчевой) // Русский архив. 1907. Кн. 2. С. 93). 1 36
267
Если Соловьев считает, что в кличе греков при падении Константинополя: «Лучше рабство мусульманам, чем соглашение с латинянами», – этом «крике непримиримой вражды» «не было ничего христианского», то И.С. Аксаков, в ответ восклицает: «Как ничего христианского! Стократ благословенны греки за то, что предпочли внешнее иго и внешние муки отступлению от чистоты истины Христовой и сохранили нам ее неискаженною папизмом <…>» (см. об этом в книге племянника философа, С.М. Соловьева, «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева». Брюссель, 1977. С. 223; переиздание: М., 1997. С. 201).
268
Поясняя свою личную позицию в отношении православной и католической Церквей, Соловьев пишет Аксакову: «Употреблю глупое сравнение: представьте себе, что моя мать на ножах с своей сестрой и даже не хочет признавать ее за сестру. Неужели, чтобы примирить их, я должен бросить свою мать и перейти к тетке? Это нелепо. Все, что я должен делать, это внушить всеми силами своей матери (и своим собратьям), что противница ее все-таки родная законная сестра <…> и что им лучше и благороднее бросить старые счеты и быть заодно» (Со- ловьев В.С. Письма. Т. 4. Пг., 1923. С. 23).
269
Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 5. СПб., 1912. С. 393 1 37
270
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 67. 1 38
271
Безобразова М.С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве… С. 149; то же: Книга о Владимире Соловьеве. С. 96.
272
Еще в 1889 г. Соловьев писал А.А. Фету: «Мои приятели иезуиты сильно меня ругают за вольнодумство, мечтательность и мистицизм. Вот и угоди на людей!» (Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 121).
273
См.: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 4. С. 192. 1 39
274
Антоний (Храповицкий), архиеп. Ложный пророк… С. 188.
275
Там же.
276
В этом отношении Соловьев опять оказывается между двух огней и с грустным юмором пишет канонику Ф. Рачкову: «Книгу мою французскую не одобряют с двух сторон: либералы за клерикализм, а клерикалы за либерализм» (Письма. Т. 1. С. 179).
277
К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум письмам). М., 1912. С. 12. Заметим, что в том же 1891 году, когда Леонтьев выражал надежды на папство как охранительную антилиберальную силу, папа Лев XIII в своей знаменитой энциклике «Rerum novarum» объявляет о новой, положительной позиции католической церкви в вопросе о социальной справедливости.
278
Соловьев В.С. Письма. Т. 4. С. 221.
279
Соловьев В.С. Письма. Т. 4. С. 221.
280
Там же.
281
Цит. по: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 1. С. 435.
282
Из статьи «Жизненная драма Платона» (Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. 2-е изд. Т. 9. С. 215—216). Впрочем, противостояние персонифицированному злу признавалось Соловьевым еще в юности. Об этом свидетельствует шуточная стихотворная пьеса его друга Ф. Соллогуба «Соловьев в Фиваиде», приводимая в труде С.М. Лукьянова.
283
Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 3, 24—25. То же: Т. 1. М., 1995. С. 15, 35.
284
Давыдов Н.В. Из прошлого. Ч. 2. С. 145
285
Соловьев В.С. Письма. Т. 1. С. 33—34.
286
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 47, 46 соотв. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 17, 16 соотв.
287
Из воспоминаний Л.М. Лопатина (цит. по: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 4 (т. 3). С. 15).
288
Цит. по: Лукьянов С.М. Указ изд. Кн. 3. С. 45, 46.
289
См. там же. С. 129.
290
Трубецкой Евг. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. Т. 1. М., 1913. С. 8. То же: М., 1995. С. 20.
291
Цит. по: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 3. С. 86.
292
Ей как «подруге вечной» посвящены в лирике Соловьева стихи так называемого «софийного цикла» и в особенности поэма «Три свидания».
293
Рачинский Г.А. Взгляд В.С. Соловьева на красоту // Вопросы философии и психологии. М., 1901. Кн. 56 (1). С. 132.
294
Эта черта была у Соловьева не результатом отвлеченной рефлексии, а представлением, с которым он появился на свет. Как рассказывает В.Л. Величко о его детстве, мальчик «даже неодушевленным предметам давал имена собственные. Любимый свой ранец с книгами он называл, напр., Гришей, а карандаш, который носил обыкновенно на длинном шнурке через плечо, как меч, или на шее, – он называл Андрюшей. Эта детская черта вошла затем в основу одной из коренных его философских идей» (см.: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 1. С. 43).
295
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 63. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. М., 1995. Т. 1. С. 33.
296
Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 528. То же: М., 1995. Т. 1. С. 505.
297
Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 63.
298
См. письмо Соловьева Л.Н. Толстому от 28 июля – 2 августа 1894 года, где воскресение Христа осмысливается как неизбежный результат природно-духовной эволюции (Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 38—42).
299
Лопатин Л. Философское миросозерцание В.С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. Кн. 56 (1). С. 54.
300
Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 28—29. То же: М., 1995. С. 39.
301
К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни… С. 14. 1 50