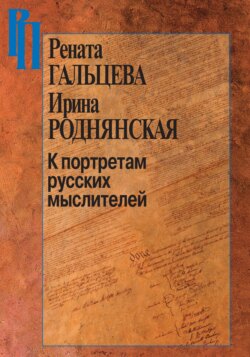Читать книгу К портретам русских мыслителей - Ирина Бенционовна Роднянская, Рената Гальцева - Страница 7
Владимир Соловьев
Р. Гальцева, И. Роднянская
Реальное дело художника
«Положительная эстетика» Владимира Соловьева и взгляд на литературное творчество302
ОглавлениеI
Перед нами – последний бастион классической эстетики, существовавшей в европейском мире около двух с половиной тысячелетий и опиравшейся на онтологию Прекрасного. Конечно, и после Соловьева его путь остался привлекательным для близких по исходным рубежам философов: Вячеслава Иванова, Сергея Булгакова, а на Западе – таких выдающихся томистов, как Жак Маритен. Но возобладавший в искусстве нашего столетия дух бунта против мирового строя привел эстетику – как дисциплину, в некотором смысле зависимую от практических вкусов времени, – на рельсы «теории выразительности», с первыми проявлениями которой Соловьеву уже приходилось схватываться.
Среди эстетических воззрений нет ничего более полярного, чем опора в одном случае на красоту, а в другом – на выразительность. Эта противоположность еще недостаточно осознана и ответственно не обдумана. Даже в статье об эстетике, написанной для «Философской энциклопедии» крупнейшим истолкователем неоплатонизма и знатоком сочинений Соловьева Алексеем Федоровичем Лосевым, выразительность рассматривается как фундамент эстетического акта – без отчета в том, что таким образом, по существу, упраздняется вопрос: каково место этого акта на шкале абсолютных ценностей. Другими словами, незамеченным остался радикальный поворот от веры во вселенную, имеющую смысл, к нейтрально-позитивистскому представлению о мире как вместилище наличных вещей, оформленных в соответствии со своими качествами и функциями, – поворот от неоплатонического идеализма к феноменализму.
Уже заезженная назойливыми моралистами троица Истины, Добра и Красоты на самом деле, как и многие другие «банальности», заключает в себе в свернутой формуле целое философское здание. Здание это стоит на предпосылке идеальной благоустроенности бытия, на фоне чего всякая дисгармония воспринимается как отклонение. Благая, добрая основа бытия есть его сущностная истина, в плане выразительности и являющая себя красотой. Любая другая выразительность, с этой точки зрения, – либо ложная, поддельная красота, выставляющая дурное и лишенное бытийного корня в привлекательном виде, либо уродство, минус-красота, правдиво свидетельствующая о поврежденности нормы в данной вещи. В этой системе отсчета эстетика соотносится с высшим смыслом жизни, включаясь в стремление человека к идеалу. Отрезающая себя от идеальных ориентиров, «горизонтальная» эстетика позитивна и феноменальна только на уровне деклараций; непризнание Логоса в мире ведет к эстетическому произволу, питающемуся имморализмом и неуклонно повышающему акции безобразия, которое выдается за истинный образ существующего.
Соловьев, рыцарь Красоты как объективной мировой силы, начал философскую деятельность с борьбы за восстановление прав Абсолюта «против позитивистов»303 и в конце своего поприща раскусил плоды этого вроде бы внеценностного направления – ницшеанский «гиперэстетизм», претендующий на превосхождение добра, но имеющий источником низшие проявления человеческой природы304.
Итак, Владимир Соловьев – наследник того взгляда на космос как на образец для художника, без которого была до сих пор невозможна вся большая культура. Но это наследие он разворачивает в сторону христианской эсхатологии, обещающей торжество красоты на «новой земле» под «новым небом». Совершенная мера, какою у него мерится все наличное бытие, – это мера будущего века.
Ведущая мысль Соловьева – о свете преображения, которым будет пронизан и претворен весь тварный мир. В этом отличие эстетики Соловьева от статического двоемирия платонизма, где прекрасное пребывает в недвижном царстве идей, не поднимая до себя преходящее земное бытие. По Соловьеву, красота – плод любви идеи к материи; она не обитает в сфере отвлеченной идеальности, или спи-ритуальности, она есть «святая телесность», материя, до конца просветленная идеей и введенная ею в порядок вечности. Вопрос о красоте – это для нашего мыслителя практический вопрос о «спасении» материального мира. Воспользовавшись «недоговоренной» в «Пире» интуицией Платона о рождающем в красоте Эросе, Соловьев выводит заветы Платона из русла последующего античного неоплатонизма, презревшего материю, и направляет их в русло религии спасения.
Если теперь мы обратимся к немецкой классической философии, являющейся, по справедливой характеристике А.Ф. Лосева, наиболее значительной в Новом времени версией неоплатонизма, то увидим, что воспитанник этого направления Соловьев, имея в качестве незабытой отправной точки некоторые общие мотивы с патристикой, и сюда вставляет свое особое христианское слово, проведенное через философский искус.
Он принимает как достижение разработку автономной эстетики у Иммануила Канта, который, назвав красоту «бесцельной целесообразностью», освободил ее от служебной роли на подхвате у Добра (что имело место в дидактических поэтиках Средневековья). Но, соглашаясь с этим определением, метко разящим уже послекантовский «эстетический утилитаризм», Соловьев считает дефиницию Канта «чисто отрицательной» – недостаточной в главном. Ибо, если красота не служит ничему средством, значит, сама она, в своем положительном содержании, есть не что иное, как мировая цель, состояние, к которому должен стремиться мир и которое наступит в результате воплощения в нем Истины и Добра. В отличие от игровой и созерцательной эстетики основоположника немецкого идеализма эстетика Соловьева активна и озабочена своим жизненным делом.
Гегелева эстетика, при определенной близости к соловьевской – связью между становящимся Абсолютом и художественными его отражениями, – имеет лишь второстепенное значение в «феноменологии духа», поскольку венцом мирового процесса сочтено здесь пришедшее к самоосознанию Понятие. Мир воплощенных форм, собственно мир художественно-прекрасного, брошен по дороге, как отслужившая одежда. В то время как Соловьеву никакая вершина самопознания не может заменить реального блага воплощенной красоты, евангельского «Слово плоть бысть», распространенного в конечном счете на все мироздание.
Ближе всего Соловьев, как и вся традиция российского любомудрия, конечно, к Ф. Шеллингу. Но и тут различие существенно. Евгений Трубецкой, автор знаменитого исследования «Миросозерцание Вл.С. Соловьева» (1913), косвенно указывает на такое различие, находя в эстетических сочинениях Соловьева значительно меньший уклон к пантеизму, нежели в его метафизике, явственно окрашенной шеллингианством: внебожественная хаотическая основа бытия, шаг за шагом вводимая в порядок красоты, понимается в этих сочинениях не как эманация Божества, не как ухудшенная версия божественного бытия, а как сотворенная «из ничего» «безвидная земля» Библии, над которой трудится «космический ум», ее устрояющий. Однако, быть может, еще важнее другое различие между Шеллингом и Соловьевым – в самой направленности, в самом пафосе их систем. У Шеллинга мироздание выступает, так же как и у согласного с ним Соловьева, в виде произведения мирового художника, однако произведения совершенного и завершенного в космическом времени. Искусство же призвано постигать это совершенство, недоступное дискурсивному разумению, служить передатчиком истины о красоте мирового строя, – опять-таки задача познавательная, но не деятельная. Для Соловьева мир не завершен; пройдя космическое восхождение, он продолжает твориться в человеческой истории. Ведь природная красота еще не преодолевает, по Соловьеву, косности, тяжести и разобщенности элементов мирового целого, она побеждаема временем и смертью. Значит, заключает мыслитель, задача преображения мира духовной силой ждет своего разрешения от человека, который, будучи наделен разумом, один только может сознательно взяться за нее. По мысли самого Соловьева, художественное дело человечества состоит не в повторении, а в продолжении художественного дела, которое начато природой.
Как видим, Владимир Соловьев даже в такой исконно зарезервированной за созерцанием сфере, как эстетическое, остается верен главной интенции русской философской мысли, которая прямее всего выражена известными словами Н.Ф. Федорова: «мир дан человеку не на погляденье» – он не только дан, но и задан.
В эстетике Соловьева с наибольшей энергией выразился «религиозный материализм» как основа мироотношения. Недаром диссертацию материалиста Н.Г. Чернышевского Соловьев со свойственной ему готовностью везде отыскивать зерна истины на звал «первым шагом к положительной эстетике». Материя, земля для него одновременно и «сумрачное лоно», дарящее свою сырую плоть всему, чему предстоит стать прекрасным, и задаток будущего совершенства – предмет и благодарности и страсти. Вспоминается такой же «материализм» князя Мышкина в «Идиоте» Достоевского и вообще присущий этому писателю, одному из вдохновителей Соловьева, теллурический эрос, культ матери-земли. По аналогии с учением Федорова о «воскрешении отцов» эстетику Соловьева можно метафорически назвать делом «воскрешения Матери».
II
Свои статьи на эстетические и литературные темы Владимир Соловьев адресовал читающей публике, достаточно далекой от его философской и теологической терминологии, а главное – не проникшейся всей серьезностью его кредо. Поэтому мы не найдем здесь не только интимной мистики Соловьева-поэта, обращенной к видению «подруги вечной», к лику Вечной Женственности, прозреваемому сквозь «грубую кору вещества», но и упоминания о прошедших через философскую рефлексию метафизических сущностях – таких, как София Премудрость Божия и богочеловеческий процесс (между тем как раскрытие их и составляет основное содержание капитальных его трудов – «Чтения о Богочеловечестве», «Россия и вселенская Церковь» и др.). Соловьев-эстетик подчас позволяет себе изъясняться на языке полупоэтическом-полунаучном, что оставляет впечатление туманного философского мифа: «Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою душою, или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, – творит в ней и через нее сложное и великолепное тело нашей вселенной» («Красота в природе»305). В недрах этой мистерии, где действуют олицетворения не вполне определенных сил, у Соловьева, как увидим дальше, могут прятаться и неувязки мысли; но, конечно же, за мифическими «псевдонимами» проглядывают контуры созданной Соловьевым метафизики положительного всеединства.
Норма и итог мироздания представляются философу как полная свобода частей в абсолютном единстве целого. И раздробленость, и принудительная общность равно далеки от этого идеала. Красота торжествует там, где побеждена всякая косность, разъединяющая элементы мира, где рухнули перегородки во времени и пространстве между наполняющими мир вещами, а сами эти вещи не потеряли своей самобытности. Иначе говоря, условиями красоты оказываются свобода, оберегающая каждое бытие от поглощения целым, и любовь, оберегающая целое от вражды и распада. Ближайшей аналогией такого тоталитета у философских предшественников Соловьева считался живой организм. Но мистическая интуиция Соловьева толкала его дальше: организм безличен, следовательно, единство его неполноценно; положительное всеединство должно обладать лицом. И личный образ совершенства, требуемый метафизической концепцией Соловьева, предносился ему как София306 Премудрость Божия, олицетворенная красота, которая по отношению к мирозданию является замыслом, деятелем и финальным состоянием.
Как же движется к этому состоянию мир? Мысль Соловьева была постоянно занята разработкой теории мирового процесса в его «космической» и «богочеловеческой» (т.е. исторической) стадиях, причем нервом ее можно счесть не историософию, а своеобразную космогонию, подчиненную эстетическому критерию.
Такого рода космогония составляет содержание программной статьи «Красота в природе» (1889), по поводу которой Е.Н. Трубецкой замечает, что в нее вложены мысли, продуманные и отстоявшиеся на протяжении целого десятилетия – 70-х годов. Размышления Соловьева здесь захватывающе грандиозны – и поразительно противоречивы.
Прежде всего некую сумятицу в изложение вносят понятия, которые он в границах своего эстетического трактата не обязывался, как уже говорилось, строго определять, но которые ему не удалось, по-видимому, прояснить и для себя на протяжении всей жизни. Самое темное из них, однако не изымаемое из хода рассуждений в статье, – это «душа мира». Если вспомнить, чтó Соловьев писал на ту же тему в других местах, картина не прояснится. То философ отождествляет душу мира с Софией, запредельным божественным замыслом о вселенной, то, стремясь избавиться от пантеизма, от отождествления божественного бытия с мировым, усматривает в ней противообраз Софии, воссоединения с которой жаждет смутно порывающаяся ввысь мировая душа (она же «первая тварь», materia prima, мать внебожественного мира, душа хаоса, природа, наконец, земля); то понуждает видеть в ней что-то вроде личности с волей и желаниями, то характеризует ее как бессознательное и доличное стремление к единству, личным образом реализуемое лишь в человеке – этом «центре всеобщего сознания природы». Для дальнейшего уяснения противоречий соловьевской миропреобразующей эстетики важно заметить, что у него не божество, а душа мира оказывается непосредственным агентом мирового процесса, космическим художником, воспроизводящим зиждительные воздействия Логоса неадекватно, так сказать, методом проб и ошибок, с катастрофическими уклонениями на каждой стадии. Возникает величественная первобытная драма – диалог «первой твари» с Богом.
Но по ходу этой драмы Соловьев предоставляет попеременно действовать двум разным принципам: естественнонаучному эволюционизму и религиозно-поэтическому символизму. Мыслителю представляется, что оба они свидетельствуют в пользу магистрального дела красоты в природе. Между тем эволюция материи от простого к сложному, от примитивной организации к высокой осуществляется вне прямой зависимости от человеческих понятий о прекрасном (тех самых понятий, за которыми Соловьев признает объективность); если червь, стоящий на более высокой ступеньке эволюционной лестницы, прекраснее алмаза, то дело красоты в природе проиграно. Соловьев в этом случае пытается поправить положение, мифологизируя натуральную эволюцию: в строении червя хаотическая сила материи возобладала над формой, оказав злобное сопротивление идеальному началу, поэтому червь и являет собой, по сравнению с мертвым минералом – алмазом, рецидив безобразия в потенциально более прекрасном царстве живого. Мало того, что с этим не согласится натуралист-зоолог, который может восхищаться целесообразным устройством червя, не спрашивая с него красоты; вряд ли рассуждение Соловьева способно удовлетворить и строгого философа или теолога. Лишь в гностической мифологии активность зла связывается с материальной стихией, а не с нравственной волей, носителем которой может быть лишь разумное сознание. Мистический эволюционизм Соловьева, вопреки желанию автора подключить к делу красоты научные аргументы (в духе искомого «великого синтеза» религии, науки и философии), не достигает цели.
Но в той же статье мы находим и совершенно другой угол зрения на природную красоту, другую цепочку аргументов, а вернее – наглядных аналогий. Когда алмаз, просвеченный лучами света физического, предстает как прообраз просвещенной горним светом и спасенной материи; когда «всеобъемлющее небо» своим торжественным спокойствием возбуждает мысль о достигнутом всеединстве; когда водная стихия своим непрестанным движением напоминает о прекрасной неисчерпаемости жизни, – тогда вся природа представляется говорящей с человеком на внятном ему языке символов, повествуя о красоте, которая больше ее самой, которая есть в запредельности и должна быть чаема на земле. В таком, символическом понимании (бессознательно намеченном Соловьевым) красота природы, так сказать, объективно-субъективна, она существует реально, а не в фантазии человека, но существует для человека и никак не помимо него. Живи Соловьев сегодня, он, вероятно, был бы рад узнать, что исконное богословское представление о мироздании, созданном для человека-художника, человека-возделывателя, совпадает с установленным современной наукой «антропным принципом», согласно которому вселенная устроена так, как будто присутствие человека предполагается в ней заранее. Однако беда в том, что религиозно-антропологический принцип как раз в эстетике Соловьева проведен непоследовательно и именно здесь обнаруживается завязь того утопизма, который разрастается в учение о теургической миссии искусства.
III
Надежды на преображение мира в красоте Соловьев связывает с художественным актом, понимаемым расширительно. Его стихотворение «Три подвига» (1882) – как бы поэтический эпиграф и лирический ключ к статье «Общий смысл искусства» (1890). Тот, кто проникся этим смыслом, должен, читаем мы в его стихотворном манифесте, совершить подвиг Пигмалиона, придающего косному материалу прекрасную форму, подвиг Персея, побеждающего дракона, то есть поработившее красоту нравственное зло, и, наконец, подвиг Орфея, выводящего красоту-Эвридику из ада смерти. Границы искусства раздвинуты здесь так широко, что в него помимо собственного дела художника – символического, а не реального преображения материи, входит, по существу, дело святого – «умное художество», освобождающее от власти греха, и даже дело самого Богочеловека, сошедшего во ад ради победы над смертью.
Для Соловьева, однако, между «тремя подвигами» существует необходимая преемственная связь, как будто они предназначены одному и тому же деятелю, который до сих пор останавливался в самом начале пути – на чисто символической акции вытесывания статуи из камня – исключительно в силу своей робости и непросвещенности. Ибо высшая задача искусства – «превращение физической жизни в духовную» (с. 82), а значит – в бессмертную, «создание вселенского духовного организма» (с. 83), где уже не останется непреображенной материи. Философ заходит так далеко, что попрекает художественную деятельность за самую ее суть, за то, что она творит воображаемый мир, даже когда стремится создать подобия абсолютной красоты: все-таки «и это чудо искусства, доселе не удававшееся ни одному поэту, было бы среди настоящей действительности только великолепным миражем в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную жажду» (с. 89). «Совершенное искусство, – пишет Соловьев, – должно <…> пресуществить нашу действительную жизнь» (там же). Его не смущает, по-видимому, беспрецедентность подобного задания, возлагаемого на человеческие плечи. «Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?» (там же). Во взаимоотношениях с окружающим миром он встает на сторону должного, а не сущего и поэтому ощущает себя призванным к невиданным инициативам. Духовный мир с его красотой для Соловьева настолько реальнее и субстанциальнее, чем преходящая неприглядная действительность, что победа первого над второй зависит, кажется, только от решимости и веры.
Но помимо психологического источника этих взглядов, коренящегося в преизбытке личной духовности Соловьева, они следуют также из отмеченного выше уклона его философской мысли. Не случайно эстетика Соловьева не испытывает нужды в таких общепринятых в его время категориях, как возвышенное, трогательное, ужасное и т. п.; более того, по поводу одной из них – а именно «возвышенного» – он специально оговаривает излишность данного термина. Эта особенность его зрения становится понятна, если учесть, что все перечисленные грани эстетического выражают активный отклик человеческой души на проявления бытия; в отличие от «прекрасного» они мыслимы лишь внутри человеческого мира и только через воздействие на него и в меру такого воздействия могут преображать мир материальный. Это и есть та «субъективная» сторона художественного дела, без которой оно превращается в магию, прямо и непосредственно овладевающую вещами и стихиями.
И действительно, в соловьевском царстве одушевленных стихий и подобных им дочеловеческих деятелей художнику как бы открывается простор для соучастия в этой натуральной драме на роли вождя. Такое, по сути магическое, призвание художника-творца Соловьев в «Философских началах цельного знания» и ряде других сочинений именует «теургией», богодействием, человеческим продолжением божественной работы по совершенствованию мира.
Приходится констатировать, что на дальнем горизонте мыслей Соловьева об искусстве проступает грандиозная эстетическая утопия. Ее можно до конца уразуметь лишь в связи с учением философа о преображающей силе Эроса, развернутым в статьях «Смысл любви» (1892—1894) и «Жизненная драма Платона» (1898). Смысл художественного вдохновения и смысл любовного пафоса Соловьев характеризует почти одинаковым образом: и то и другое – пророчество о должном, пророческое созерцание красоты сквозь преходящий образ мира и сквозь эмпирику любимого лица. В самом деле, сравним: «Всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете, будущего мира, есть художественное произведение» (с. 83 – «Общий смысл искусства»). А в «Смысле любви»: «любовный свет», прозорливая идеализация любимого предмета есть «начало видимого восстановления образа Божия в материальном мире» (с. 125). В этих первоначальных заветах любящему, пусть и головокружительных по своей высоте, еще нет ничего собственно утопического. Однако дальше, как и в случае с искусством, в силу вступает теургический импульс. «Как Бог творит вселенную, как Христос созидает церковь, так и человек должен творить и созидать свое женское дополнение» (с. 140). Иными словами, влюбленный – тот же художник, перешедший, однако, границы искусства (к чему, впрочем, у Соловьева художник-теург как раз призван) и уже непосредственно претворяющий жизненный «материал» (это слово в статье о любви присутствует!), то есть личность своей возлюбленной307. В обоих случаях благой финал предполагается один и тот же: введение предмета творчества или предмета любви в план бессмертия и шире – торжество над смертью в «перерожденной» вселенной. Притом и любящего, и художника вдохновляет на это сверхприродное дело сама София, Вечная Женственность, чей небесный образ равно просвечивает сквозь индивидуальный лик любимой женщины и сквозь изменчивые лики природы – ближайшего объекта художественного вдохновения. Кстати, «три подвига», помянутые выше, – столь же подвиги любви, сколь и искусства. Их трехликий герой – Пигмалион-Персей-Орфей – как раз и творит «свое женское дополнение», создавая Галатею, освобождая от зла Андромеду и увековечивая Эвридику.
Замысел Соловьева сопоставим по своей дерзновенности с «философией общего дела» его старшего современника Н.Ф. Федорова. И здесь и там речь идет о пересоздании коренных условий человеческого существования, об избавлении всего человечества от смертности и о включении природы в общий план спасения. Сходство, казалось бы, велико, тем более что не раз высказывались предположения, в том числе и самим Федоровым, что Соловьев подхватил в своей схеме богочеловеческого процесса федоровские идеи, но не имел смелости развивать их с присущей автору прямотой и преподносил их половинчато, в закамуфлированном виде. Действительно, многое говорит в пользу того, что ошеломительная идея всеобщего воскрешения, исходившая от Федорова и рано ставшая известной Соловьеву, развязала утопическую энергию в молодом мыслителе-реформаторе и заставила его думать в том же направлении. Но фактически он выступил не как продолжатель, а, скорее, как соревнователь федоровского «проекта».
Совершенно принципиально (и, быть может, полемически осознано самим Соловьевым) то обстоятельство, что великое преобразовательное дело, препоручаемое Федоровым жизненно переориентированной науке, у Соловьева должно совершаться средствами шагнувшего за свои привычные пределы искусства. За образец берется отношение к природе не ученого, а поэта: если Федоров мечтал о «регуляции» стихийных сил, о том, чтобы обезопасить их и поставить на службу людям, то для Соловьева такая победа исключила бы жизнь природы «из всеобщей солидарности»; стихию надо не «победить», а «убедить», просветлив изнутри, и это уже задача не инженерии, но гармонии, не организации, но свободного согласия. Движущая сила «проекта» Федорова – нравственная энергия сыновней любви, сыновнего долга перед умершими отцами, при отрицании за энергией пола какого-либо положительного смысла. Для Соловьева сила любви тоже глубоко нравственна, ибо означает уничтожение эгоизма, перенос центра личности со своего «Я» на другое. Но федоровские надежды на созидательную мощь сыновних чувств для него неубедительны, он отказывается видеть в родственных отношениях прототип спасающей любви. Дело спасения он возлагает на любовь половую, силу, по мирочувствию Соловьева, на вершине своей – мистическую, а не только нравственную или естественную. Совершенное соединение двоих восстанавливает целостный образ человека-андрогина, который, преодолев ущербность раздельного существования полов, тем самым обретает бессмертие. И уже от таких бессмертных пар, как надо понимать Соловьева, ждет избавления вся стенающая тварь, вся раздробленная «физическим эгоизмом», подпавшая закону смерти земная природа. Таким образом, по многим важнейшим пунктам натуралистически-техницистской интуиции Федорова противостоит художественно-мистическая интуиция Соловьева.
Однако печать ирреализма лежит на вселенских замыслах и того и другого. Оба черпают воодушевление из христианского источника и в своих построениях обычно ссылаются на образы родительской или брачной любви, данные в Писании, но оба в своем гибрисе, реформаторском азарте нечувствительны к той преграде грехопадения, которая отделяет человеческие возможности от божественного всемогущества и смиряет человека перед его земным уделом в качестве подзаконного существа. Утопизм и есть непризнание границ, положенных воле человека высшей волей, – когда мечтается, что «невозможное возможно», стоит только пожелать. И вот, вразрез с великой христианской идеей Богочеловечества, развивавшейся Соловьевым на протяжении всей жизни, он, как и другой пламенный христианин, Федоров, попадая в пространство утопии, невольно вступает на дорогу обличаемого им человекобожества. Привлекательность цели и непредставимость подручных средств для ее достижения – характерная черта магической утопии. Это не религия, не наука и не искусство, а нечто, принципиально игнорирующее границы между всеми ними и самостоятельную сферу каждого. В такого рода утопии всегда будет волновать пророческая постановка вопроса, но вслед за этим мысль у Соловьева, подобно герою «Жизненной драмы Платона», «сбивается с пути и начинает блуждать по неясным и безысходным тропинкам»308.
Впрочем, тот вызов здравому смыслу, который был сделан Соловьевым в его эротико-эстетической утопии, не остался без значительных последствий в русской культуре. После трагических попыток осуществить эти идеи в жизненной практике, предпринятых в начале XX века младшими символистами, им пришлось глубоко задуматься «о границах искусства» и признать неизбежность этих границ и плодотворность их для дела художника в мире.
IV
Если судить по тем невообразимым и неподъемным задачам, которые ставит перед художником Соловьев, теоретизируя о метафизике красоты и метафизике любви, – можно не без опаски предположить, что его сошедшие с утопических высей оценки современных писателей и поэтов окажутся крайне доктринерскими и далекими от конкретных художественных явлений. Между тем, вопреки ожиданиям, мы в лице Соловьева – литературного критика встречаемся с проницательным судьей, чувствительным и к месту художника в мире идей, и к его индивидуальному пафосу. Здесь философская мысль почти полностью освобождается от примеси прожектерства и в дело идут вкус Соловьева-поэта и внимание к духовному строю личности, отличающее Соловьева-христианина. Все это, разумеется, без отказа от веры в объективную силу красоты.
Литература и живопись XIX века, ушедшие от классической нормативности и уходящие от романтической идеализации, не могли не поставить перед Соловьевым вопрос, едва ли не роковой для его эстетической программы: откуда же берется красота в таком искусстве, как бы выросшем из действительности? К этому вопросу о «поэзии и правде» (если воспользоваться знаменитой формулой Гёте) Соловьев с разных сторон возвращается в своих статьях о литературе.
Для колебаний мысли Соловьева очень показателен его спор с кн. С.М. Волконским, автором книги «Очерки русской истории и русской литературы. Публичные лекции, читаные в Америке» (1896), по поводу понятия «живописность»309. Один из сюжетов в лекции Волконского – восхищение Иваном Грозным как колоритнейшей моделью множества писателей, поэтов и художников – послужил толчком, возбудившим кардинальные раздумья над «различием между красотою изображения в искусстве и красотою самого изображаемого как явления в действительности и в истории» (с. 214). Соловьев проводит разграничение между действительным как образцом для воспроизведения и как всего лишь «поводом» или «материалом» для творчества; в первом случае действительность должна быть прекрасна сама по себе, содержать в себе норму красоты, которой подражает художник, во втором – она должна, по не слишком ясной формулировке Соловьева, обладать «богатством фактического содержания» (с. 215), пусть то будет даже содержание вовсе не прекрасное и не высокое.
Соловьев здесь повинуется своему нравственному чувству, протестуя против признания эстетической ценности («живописности») за экспрессивным уродством и злом, наблюдаемым в жизни, но он все-таки готов предположить в арсенале искусства наличие средств, способных «переработать» это уродство и это зло в полноценно прекрасный художественный предмет. Спрашивается – как? Ответа в пределах данного рассуждения мы не найдем, поскольку, не сосредоточиваясь на лично-духовном усилии творца, Соловьев ограничен чисто предметным соотношением между явлением действительности и художественным фактом. Остается думать, что превращение безобразной или ужасной натуры в прекрасное изображение – это либо следствие невольного помрачения художественного взгляда, утерявшего чувствительность к безобразию, либо любование злом, его сознательная идеализация. Но ведь Соловьев явно имеет в виду другое: неподдельную красоту, непонятным образом рождающуюся из антиэстетического «сырья».
Однако стоит мысли Соловьева обратиться к творческому миру современного художника – Достоевского, миру, знакомому и близкому ему изнутри, как вопрос о злой действительности и прекрасном художественном продукте находит свое убедительное решение. Во вступительном слове, которым Соловьев предварил речи в память Достоевского, читаем, что писатель «принял в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолел все это бесконечною силою любви» (с. 228). Может показаться, что это характеристика скорее душевных движений, чем эстетического акта, но на самом деле здесь вводится как раз тот недостающий в теории Соловьева элемент, благодаря которому ужас и безобразие жизни трансформируются в прекрасное творение. По существу, тут очерчены подлинное поле действия художника – мир, принятый им в душу, то есть из внешнего ставший внутренним, и, косвенно, – поле его воздействия: не действительность как таковая, а опять-таки человеческие души, которые под влиянием эстетического впечатления способны изменить себя и жизнь. Недаром в статьях о великих творческих судьбах – о Достоевском, Пушкине, Мицкевиче, Лермонтове – Соловьеву рисуются образы не «теургов» или «демиургов» с их в некотором смысле «операциональным» отношением к бытию, а пророков и духовных вождей.
Вдохновляясь этими образами, Соловьев неожиданно находит прогресс искусства в реалистической романистике своего времени, то есть там, где немецкая классическая эстетика видела упадок и симптом конца художественной эры человечества и где он сам, когда поддавался своим непосредственным вкусам, испытывал неудовольствие от заземленности или неблагообразия. В первой речи о Достоевском, где заявлен такой взгляд на движение искусства, автор оставляет за классическим каноном античности и Ренессанса, который до сих пор считался вершиной художественных достижений человечества, всего лишь предварительную роль – создания прекрасных форм, отвлекающих от житейской тьмы либо прикрывающих ее извне. Это только цветы искусства, и то, что они «опали», не повергает Соловьева в уныние, потому что он видит завязь плодов в идущем на смену классическому, обратившемся к сырой реальности искусстве. Даже неизбежный в этом случае натурализм («изображать еще не значит преображать») не отпугивает его, ибо искусство не может привлечь человека к тьме и с этим его оставить: следующим шагом непременно будет усилие просветить эту тьму, и такой шаг, по Соловьеву, сделан Достоевским, предтечей нового религиозного реализма. «…Грубый реализм современного художества есть только та жесткая оболочка, в которой до времени скрывается крылатая поэзия будущего» (с. 232).
«Красота спасет мир» – этот афоризм Достоевского, который несколько лет спустя станет эпиграфом к статье «Красота в природе» и сослужит там Соловьеву космиургическую службу, в цикле речей о Достоевском получает совершенно уникальное истолкование в качестве общественного лозунга. Полемизируя с радикалами, упрекавшими писателя в отсутствии передовых идеалов (в первую очередь спор велся с Н.К. Михайловским), Соловьев объявляет преимуществом Достоевского независимость его от внешних насильственных социальных проектов и приверженность такому идеалу, который преображал бы общежитие изнутри человеческой души. Мыслитель, проникаясь озарением Достоевского, как бы предлагает проверить благоустроенность и справедливость общественного целого критерием красоты. Уродливость форм жизни в принудительных общностях, будь то архаическая деспотия или планируемый коммунистический муравейник, свидетельствует о том, что в основе одного и другого – ложное единство. «Дело не в единстве, а в свободном согласии на единство» (с. 245), – говорит Соловьев (и тем сразу обозначает слишком часто игнорируемую разницу между коллективизмом и соборностью). «Мир не должен быть спасен насильно» (там же), а единственный способ обойтись без принуждения – привлечь сердца красотою. Она, таким образом, и путь воздействия на общество, и конечный идеал общественных отношений.
На этом пути художник становится пророком новой общественности в силу своей опоры на сверхсоциальное и благодаря троякой вере в присутствие красоты – в мире запредельном, в мире человеческой души и в мире природной материи. Таким верующим в преображение «мистиком», «гуманистом» и «натуралистом» Соловьев рисует Достоевского.
Вообще говоря, в писаниях Соловьева парадигма пророческой миссии художника заимствована из поэзии Пушкина и как бы по эстафете воспринята от Достоевского, непревзойденного декламатора этих стихов. Разбор пушкинского «Пророка»310, на наш взгляд, принадлежит к самым вдохновенным монологам философа. Мы узнаем здесь, что художественная способность – дар свыше; что для приятия этого дара нужно приготовить душевное вместилище – переродить чувства и очистить сердце; что такая операция сопряжена со страданиями на грани смерти; что выдержавший испытание обретает космическое тайнозрение, нравственную мудрость и власть пронзать сердца образом совершенства.
Но этот заданный Пушкиным идеал находит лишь частичное воплощение в тех или иных гениальных творцах искусства. Четыре духовных типа, представленных у Соловьева Пушкиным, Достоевским, Мицкевичем и Лермонтовым, позволяют заключить, что служение художника, неисполнимое, быть может, в его предельной полноте, осуществляется как бы двояким образом. Достоевский, Мицкевич (одноименная статья – 1899), а в неосуществленном задании и Лермонтов (одноименная статья – 1901, посмертно), изображены вождями человечества, которые призваны к богочеловеческому делу и должны послужить ему своим словом. Особенно рельефно очерчена эта миссия на примере возвышенной судьбы Мицкевича, в описание которой вложено немало и автобиографического, задушевного. Когда Соловьев показывает духовное восхождение польского поэта, в страданиях расстающегося с надеждой на личное счастье, с мечтой о национальном торжестве и с нерассуждающей верой в церковные авторитеты, через утрату этих иллюзий укрепляющегося в своем пророческом сознании (не так ли было с нашим мыслителем?), – то о художественных достижениях Мицкевича, рождавшихся на каждом этапе пройденного пути, говорится лишь вскользь, словно они – побочный продукт борений души, а не главное, что явил поэт в специальной области прекрасного. А ведь Соловьев считал Мицкевича одним из величайших поэтических гениев Европы.
Не таково оказывается служение Пушкина. В статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», посвященной призванию поэта как такового, Соловьев четко противопоставляет поэзии содержательной, богатой душевным, личностным материалом (каковы могуче-индивидуальное творчество Байрона и опять-таки творения Мицкевича), чистую поэзию, все наполнение которой – онтологическая красота. «Ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается» (с. 321), – пишет Соловьев, как бы забывая о том, что буквально страницей раньше он ставил поэтов несомненно тенденциозных – Мицкевича и Байрона – по впечатляющей силе выше Пушкина. Впрочем, философ различает (хотя и не совсем убедительно) силу поэзии и ее чистейшую сущность.
Дабы стать выразителем последней, поэту надо достичь своего рода духовной нищеты, опустошить свое сознание не только от мелочных житейских забот, но и от рефлексии, от вмешательства ума и пассивно, медиумически предать себя вдохновению из сверхсознательной области. Современного читателя, давно согласившегося с Николаем I в том, что Пушкин – «умнейший человек России», может удивить та настойчивость, с которой Соловьев, признавая за Пушкиным большой ум, подчеркивает, однако, несущественность этой способности для достоинств его поэзии. Конечно, здесь все заострено подразумеваемой полемикой с В.В. Розановым, в чьем нарочитом изображении Пушкин предстал трезвым, уравновешенным умником, не вкусившим пьянящего напитка богов поэзии311. Но у Соловьева в этом непризнании прав ума присутствует и свой принципиальный мотив. Чистая красота есть ощутительный свет вечной истины, и, открывая себя созерцанию красоты, поэт тем самым доносит до нас неискаженную истину бытия; а ум своим активным вторжением в ту прозрачную среду, какою должна стать душа поэта, своей деятельной субъективностью грозит замутить и возмутить эту душу, настроившуюся на восприятие высшей гармонии. По Соловьеву, поэт не волен в своем вдохновении, но волен, и даже обязан, оберегать его чистоту от собственных низших побуждений, а его права – от утилитаризма толпы.
Если для Соловьева Достоевский – предтеча будущего искусства, своей религиозной стороной связанного с общественным делом, то Пушкин – главная опора в защите уже достигнутой искусством трансцендентной высоты от новейших, сменяющих писаревщину, попыток расторгнуть союз между Красотой и Истиной, Красотой и Добром и, лишив Красоту бытийных оснований, обессилить, подменить, а наконец, и упразднить ее.
Намеченные здесь два облика художника и соответствующие им два рода служения – не просто эмпирически неизбежное в несовершенных земных условиях раздвоение всецелой и единой миссии. Известная двойственность, неподытоженность имеется и в самих мыслях Соловьева на сей предмет. Зная большой соловьевский контекст этих мыслей, нетрудно увидеть, что обеим художественным задачам в равной мере покровительствует София, но к своим избранникам божественная Премудрость обращена по-разному. «Чистому поэту» пушкинского склада она явлена как вселенская норма красоты, а христианскому писателю, озабоченному людской судьбой, – как норма исторического восхождения к Богочеловечеству.
Есть основания заподозрить, что Соловьев нагружает художника заданиями, на которые падает отсвет двух его разных глобальных схем. Пушкина он всячески подтягивает до теурга из уже описанной нами эстетической утопии и готов упрекнуть его, что тот, в силу своего человеческого несовершенства, остановился на подвиге Пигмалиона и не стал «практическим идеалистом». Что касается «духовных вождей человечества» или неудачливых кандидатов на это место (Лермонтов), то таковые, по-видимому, восходят к одному из лиц возглавляющей человечество троицы в теократическом проекте Соловьева, а именно – к пророку, свободным вдохновением свыше призванному наставлять царя и жреца. Сам Соловьев, незаурядный поэт и, конечно же, пророческая личность, ощущал в себе задатки и того и другого назначения, – так что, раскладывая на составные его теоретизирующую мысль, мы обязаны чувствовать и ее лирическую ауру, окрыленность личным воодушевлением.
V
Соловьев унаследовал от Достоевского веру в спасающую силу красоты, но остался почти безучастен к другому великому прозрению Достоевского – что в человеческом сердце, в зависимости от его склонности к добру или злу, эстетический идеал может раздваиваться и подменяться; что «идеал Мадонны» и «идеал содомский» соперничают между собой за душу, равно пленяя ее впечатлением красоты. Правда, положение литератора, наблюдающего падение престижа всего «прекрасного и высокого» в текущих писаниях, заставило его обронить фразу:
«Страшно, кажется, возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реально-безобразным» (с. 30) Но полуиронический тон этого замечания говорит о том, что Соловьеву все-таки осталась чужда экзистенциальная глубина обозначенной проблемы.
Высокая настроенность натуры Соловьева на идеальное и должное, непрельстительность для него демонических порывов избавляли его от соучастия в раздумье над словами Мити Карамазова: что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. А когда литературный процесс все же ставил перед ним этот вопрос, когда нарождающиеся «декаденты» попытались взрастить на русской почве первые «цветы зла», Соловьев, язвительно парируя и высмеивая их претензии, держа, что называется, круговую оборону, тем не менее не желал всерьез спускаться в этот темный лабиринт. Поэтому соответствующие суждения у него, при всей их непреклонности, обычно случайны и не соотнесены между собой.
В самом деле, в статье «Что значит слово “живописность”?» Соловьев беспечно замечает, что «живописность действительного ада, действительной чумы и действительного Торквемады все-таки осталась бы висящим в воздухе парадоксом» (с. 222). Между тем «парадокс» этот, мы знаем, заставлял содрогаться душу Достоевского, разглядевшего в садизме своего рода эстетизм.
В другом месте, обороняя Пушкина от попыток присвоения со стороны русских ницшеанцев, Соловьев уже утверждает, что «красивое зло, изящная ложь, эстетический ужас» в действительной жизни существуют» (с. 322), но в сравнении с истинной красотой это подделки, свечение болотных гнилушек.
Озадаченный несомненным обаянием прекрасного, какое излучают демонические образы у Лермонтова, однако не плененный ими, Соловьев жалуется, что поэт, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства» (с. 398), соблазняет неопытные сердца. Причем, конечно, так и не выясняется, откуда же при ложной установке души почерпнуто совершенство форм.
Наконец, в упомянутом «Особом чествовании Пушкина», почти памфлете, Соловьев противопоставляет вдохновение, идущее сверху, из царства чистой красоты, вдохновению, исходящему снизу, в виде удушливых паров, из хтонической расщелины, хаотической бездны. Однако остается открытым вопрос, может ли это опьянение низшими стихиями породить хотя бы иллюзию красоты.
Узнав, таким образом, что красота зла есть парадокс для ума, подделка для чувств, внешний камуфляж для взора, дурман для сознания, мы все же остаемся при недоумении.
Попытаемся в духе метафизики Соловьева додумать его неоформившуюся мысль. Начнем с уверенности, что эстетическая идеализация зла не может питаться из ресурсов самого зла. Значит, источником прекрасного способна служить здесь только память об утраченной высоте. Но заблудившееся нравственное чувство лукаво окружает этим прежним сиянием самый факт падшести. Так зло присваивает себе обаяние не присущей ему красоты, эксплуатируя трагедию утраты и представляя страдающую от него же, ущербленную красоту даже более значительной, чем девственная гармония.
Если бы Соловьев отнесся к судьбе Лермонтова не как к однозначно отрицательному примеру разрастающегося «демонического хозяйства», а как к человеческой трагедии раздвоения между памятью о райском, «софийном» образе вечноженственного и гордой апологией своей жизненной практики, то, быть может, у него обозначилась бы пусть отдаленная, но существенная параллель с судьбой Пушкина, которая трактуется Соловьевым тоже как драма раздвоенности, несоответствия между человеческим и пророческим.
Статья Соловьева «Судьба Пушкина» (1897) вызвала всеобщее раздражение, которое не улеглось и век спустя. Автора обвиняли в морализме (или, как теперь модно говорить, в гиперморализме) и высокомерном пренебрежении трагическими обстоятельствами, навязанными Пушкину враждебной ему средой. Разумеется, в этом сочинении Соловьев не только не учел многих конкретных биографических факторов (возможно, не зная их), но и, что выглядело особенно неуместным, взялся судить о роковой гибели Пушкина как бы от имени Провидения. И тем не менее, понятая изнутри мира соловьевских ценностей, статья, посвященная судьбе Пушкина, предстает красноречивой иллюстрацией к учению об «общем смысле искусства» – «притчей», где интимно переплетены взгляд на идеальную красоту и на идеальный эрос.
Хотя пушкинская дуэль выступает в статье как центральный и самый пространный эпизод, сразу обративший на себя раздраженное внимание читателей, истинный нерв сюжета для Соловьева – это нескромное письмо, написанное Пушкиным приятелю по поводу «победы» над той самой А.П. Керн, которой поэт посвятил высочайшее лирическое творение. Сознание Соловьева буквально сотрясено этим фактом, получившим в его глазах принципиальное духовное значение – предельного разлада между поэтической истиной (прозреть в возлюбленной «гений чистой красоты»!) и подчиненностью житейской среде, где «гусарский», цинический тон господствовал в качестве обиходной «правды». Напомним, что на игривые вопросы из альбома Т.Л. Сухотиной Соловьев с юмором, но и с недвусмысленной твердостью ответил: «Не служил в легкой кавалерии» (с. 642). Эскапада Пушкина была для него не просто компрометирующей психологической чертой: она означала оскорбление, нанесенное «чистой красоте», то есть Софии – вдохновительнице поэтов, и одновременно неверие в любовь, возводящую идеальный образ возлюбленной до той же Софии («Вера в любовь» – вот ответ Соловьева на вопрос из того же альбома «В чем счастье жизни?»). Суть внутренней трагедии Пушкина, которую Соловьев отказывается признать драмой обстоятельств, видится ему в том, что свое высшее художественное служение поэт исполнял, что называется, «по праздникам», между тем как в повседневной жизни предавался житейским страстям. И читая другие статьи Соловьева, вводящие в душевный мир русских поэтов, мы убеждаемся, что «суд» над Пушкиным и над Лермонтовым вершился не из ригористических претензий именно к этим прославленным лицам, что цельность, нерасколотость сознания всегда была для Соловьева тем главным условием, без соблюдения которого он не мог считать художественное деяние вполне удавшимся. Так именно у него разрешается дилемма «поэзии и правды».
Несчастьем большинства поэтов XIX века Соловьеву представлялось недоверие их «реалистического» ума, равняющегося на трюизмы своего времени, к той истине, которая открывается в художественном созерцании как последняя достоверность. Так, по его проницательному замечанию, Баратынский был раздвоен между религиозно-поэтическим взглядом на мир и материалистическими выводами современного ему научного умонастроения, что делало его пессимистом, то есть в каком-то смысле «отступником». Самые вдохновенные, поднимающиеся вровень с лирической высотой разбираемых образцов статьи Соловьева посвящены тем поэтам, кто так или иначе одолевал «противоположность между тем прекрасным и светлым миром, в котором живет <…> муза, и <…> суровою и темною глубиною жизни» (c. 524) Это на девять десятых посвященная А.А. Фету статья «О лирической поэзии» (1890), где ее герой, бегущий от жизненной тревоги «в мир вдохновенного созерцания», соединяет вместе с тем эти два мира «пафосом истинной любви, поднимающей его [поэта] над временем и смертью» (с. 416). (Если мы сопоставим даты и формулировки, то увидим, что патетическая любовная лирика Фета послужила таким же источником для трактата «Смысл любви», как и собственная душевная жизнь его автора.) Это философское эссе о Тютчеве (1895), у которого Соловьев находит редчайшее соответствие между интуитивным ощущением всеобъемлющей одушевленности вселенной и сознательной мыслью, эту одушевленность утверждающей. (Лирический мир Тютчева дает Соловьеву повод снова воссоздать вехи мирового восхождения красоты, расставленные им в статье 1889 года.) Это тончайший разбор стихотворений Полонского-лирика (1896), который, по словам Соловьева, «не остается при <…> двойственности» – мира поэтических созерцаний и «темной жизни», – а находит выход в столь созвучной автору «Чтений о Богочеловечестве» идее «совершенствования, или прогресса» (c. 525), притом прогресса не научного, а духовно-нравственного, оправдывающего дело художника. Это портрет А.К. Толстого (1894), позволивший Соловьеву напомнить о «старом, но вечно истинном платоническо-христианском миросозерцании» (с. 505), в свете которого художник – «связующее звено, или посредник, между миром вечных идей, или первообразов, и миром вещественных явлений» (с. 492), то есть живой гарант того, что двоемирие преодолимо.
Итак, у Тютчева Соловьев нашел родственную своей собственной мистику, у А.К. Толстого – близкую себе философию, у Фета – просветленный эротический пафос. И всякий раз это сближение критика с миром поэта происходит на почве веры в связующую задачу искусства и уверенности в том, что для исполнения такой задачи потребны цельное сознание и цельная жизнь, а нарушение этого правила мстит за себя трагедией и даже гибелью.
Частные суждения о поэтах Соловьева-критика могли быть односторонни и чрезмерно зависимы от его основоположений. Но коренному его переживанию судеб искусства сопутствует правота – правота не литератора, а учителя жизни.
VI
Соловьев – корифей русской философской критики, более того – ее подлинный основатель. Это вовсе не значит, что до него наша литературная критика, переживавшая расцвет в 40 – 60-х годах XIX века, была лишена философской подкладки, что, размышляя о литературе, не философствовали при этом В.Г. Белинский, И.В. Киреевский, А.В. Дружинин, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и даже Варфоломей Зайцев. Но именно Соловьев продемонстрировал, что философский анализ не подчиняет художественное произведение схеме, внутри которой оно обречено служить иллюстрацией тезиса, а восходит к его объективной смысловой основе. В критическом очерке о поэзии Я.П. Полонского Соловьев, сберегая от рационалистического разъятия «несказанную и неизреченную» тайну личности, исключает из задач критики уловление художественной индивидуальности в сети отвлеченных формулировок. Цель философского разбора – уяснить, на какую сторону истинного Бытия откликается душа художника как на родную себе идею, какой луч сущей Красоты озаряет мир его созданий. С этой точки зрения даже лирика для Соловьева – искусство вовсе не субъективное (в связи с чем оспаривается известное определение Гегеля), а, при всей мимолетности настроений и при всей порожденности пережитым мгновением, укорененное в вечности и живущее верой в безусловную, вечную ценность запечатляемых состояний. При таком взгляде лирика явно проигрывает в объеме тем и мотивов312, но выигрывает в самом существенном – в причастности к абсолютам, каковыми для Соловьева была Любовь и Красота, поднятые на онтологический уровень. (Они действительно ядро лирики, и иссякание этого запаса в современной лирической поэзии не может не свидетельствовать об общем ее кризисе.)
На фоне новейших течений в искусстве литературно-критическое наследие Соловьева может показаться старомодным и отсылающим к уже как бы обветшалому миру гармонии и благолепия. Но в нем как это, мы надеемся, будет в конце концов осознано, – заключена спасительная энергия, возвращающая искусство в мир духа.
303
«Кризис западной философии (Против позитивистов)» (1874) – магистерская диссертация молодого Соловьева.
304
Об этом см. в статьях «Идея сверхчеловека», «Особое чествование Пушкина», «Против исполнительного листа» (все три – 1899 г.). 1 52
305
Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. Сост. Р. Гальцевой, И. Роднянской. Комм. А.А. Носова. М., 1991. С. 72. (Ссылки на цитаты из этого издания в дальнейшем даются в тексте с указанием номера страницы.)
306
Владимир Соловьев обычно избегал теоретизирования впрямую относительно Софии как вечноженственного источника вдохновения для художников и поэтов. Однако в статье о поэзии Я.П. Полонского (1896) он, цитируя строку П.Б. Шелли «Есть существо, есть женственная тень…» и визионерскую поэму Полонского «Царь-Девица», открывает свое заветное убеждение в «сверхчеловеческом», «запредельном» и вместе с тем совершенно реальном источнике «чистой поэзии»: «Счастлив поэт, который не потерял веры в женственную Тень Божества, не изменил вечноюной Царь-Девице». Здесь же неожиданно дается предельно метафизическое определение Софии: «существо и истинная сущность всех существ» (с. 521, 520 соотв.). 1 56
307
Насколько мысль о «художественной обработке» избранницы сердца владела воображением Соловьева, можно судить по саркастическому стихотворению, написанному под влиянием любовной неудачи в отношениях с С.М. Мартыновой:
Вы были для меня, прелестное созданье,
Что для скульптóра мрамора кусок,
Но сломан мой резец в усиленном старанье,
А глыбы каменной он одолеть не мог!
Любить Вас tout de même? Вот странная затея!
Когда же кто любил негодный матерьял!..
308
Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 9. СПб., 1913. С. 228.
309
Соловьев откликнулся на книгу С.М. Волконского в «Вестнике Европы» (1897, № 2); указанием на эту рецензию мы обязаны Александру Алексеевичу Носову (1953-2002). Полемический ответ Волконского немедленно вызвал ответную статью Соловьева «Что значит слово “живописность”?» (Санкт-Петербургские ведомости. 1897. № 41).
310
Статья «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899).
311
Полемическую отповедь Розанову см. в статье «Особое чествование Пушкина», где Соловьев в форме письма в журнал «Вестник Европы» выражает свое неприятие материалов пушкинского юбилейного выпуска журнала «Мир искусства» (1899. № 13—14).
312
Об этом см., в частности, в письме Полонского Фету от 27 декабря 1890 г.: «Прочел статью Соловьева о лирической поэзии <…> разумеется, он искренен и прав с своей точки зрения на поэзию – но я лично смотрю несколько иначе. <…> C моей точки зрения поэзия все захватывает <…> и ничто человеческое не чуждо ей, а стало быть и отрицание…» (с. 676, из комментария А.А. Носова).