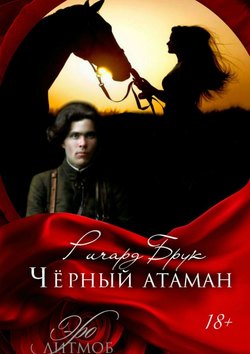Читать книгу Чёрный атаман. История малоросского Робин Гуда и его леди Марианн - Ричард Брук - Страница 7
Глава 6. Овсей Овсеич
ОглавлениеПрошла неделя с тех пор, как Саша, не доехав до Екатеринослава, попала в Гуляй Поле – и осталась здесь, не то пленницей, не то личной гостьей батьки Махно, атамана над атаманами, повелевавшего степью, расстилавшейся вокруг на добрую сотню верст…
Она не то чтобы привыкла – привыкнуть к этому странному месту, похожему одновременно на мирное красивое село, военный лагерь и шумный цыганский табор, было сложно – но по крайней мере научилась ходить по улицам без страха и не вздрагивать от каждого косого взгляда, конского топота или бухнувшего вблизи случайного выстрела…
Каждое утро она просыпалась под оглушительные вопли петухов и гомон птиц, под скрип тележных колес, стук топора и неумолчную болтовню баб у колодца; выбиралась из-под лоскутного одеяла, вслепую нашаривала одежду, и, наспех натянув кофту с юбкой, выходила из своей спаленки в общую комнату… Здесь ее встречала Дуняша, и вместо пожеланий доброго утра всласть подначивала и посмеивалась над «панночкой», что по ночам кричит, как будто ее черти мордуют, а по утрам спит так, что пушкою не разбудишь. Да еще что ни ночь, то бельишко угваздывает так, что не настираешься, и вроде соком «не жиночим, а чоловичим»:
– Змий, що ль, який до тебе прилетает на семи витрах, а, панночка?.. Дивись, як би змиенят не народила!
Саша покорно все это выслушивала, хотя порою руки чесались по-малоросски вцепиться в Дунину толстую косу и по-малоросски же выдрать нахальную бабу… да московское воспитание не позволяло. К тому же приставленная к ней не то нянька, не то тюремщица, отсмеявшись, начинала хлопотать, заталкивала ее в закут около печки, где уже была согрета вода да приготовлено чистое полотенце, и мыло, и гребень… И пока Саша умывалась – по-Дуняшиному, «наводила красу» – та успевала поставить самовар, а кроме чая, подать на стол горячий кныш и свежее масло, а еще галушки или яичницу с салом.
Дома, в Москве, это казалось бы привычным, нормальным: до революции, и даже после нее, у Владимирских всегда была прислуга… но после целого года гражданской войны, и тем более здесь, в анархистской вольной республике, «где все равны и панов нет», спокойно пользоваться чужим трудом было и стыдно, и боязно. Саша предлагала свою помощь – не была она неумехой и белоручкой, спасибо матушкиной суровости, Высшим женским курсам и работе в госпитале во время войны – но Дуня, хоть и дразнила ее «панночкой», упрямо качала головой:
– Нема чого тоби возиться с горшками та сковоридками! Ты роби, що тоби батьком Махном велено, а вдома я вже як-нибудь сама управлюся!
Тут Саше оставалось лишь густо покраснеть и уткнуться в свою чашку, и снова подумать, что же ей все-таки «велено» – то ли работать в культпросвете, помогая Севе и Галине готовить плакаты и писать речи для митингов, на радость грозному атаману батьке Махно, то ли ублажать по ночам Нестора – ласкового и страстного любовника… За прошедшую неделю она в этом так и не разобралась.
Он приходил к ней за полночь, уходил до света, и только однажды позволил себе забыться, крепко заснуть в ее объятиях… она прижалась к нему и тоже заснула – глубоко, спокойно… так вместе и встретили зарю. После атаман убежал, как любовник во французском романе – не одевшись до конца, через окно, выходившее в сад, и призраком растворился в молочном осеннем тумане. А Саша смотрела ему вслед и не могла унять ни сердцебиения, ни слез, ручьями льющихся из глаз, и сама не понимала, о чем плачет…
Гуляйпольские селяне на смех бы подняли «чутливу панночку», ну а приличные московские знакомые, не говоря уж о сестре Леночке, пришли бы в ужас. Как это так, мало того, что благовоспитанная девица благородного происхождения делит постель с мужиком, разбойником, анархистом, так еще и лаской привечает, и слезы льет, когда он уходит! Неслыханный скандал, позор… Революция и война все перевернули в России, поменяли верх с низом, быть дворянином, буржуем-эксплуататором вдруг стало смертельно опасно, пролетариат взял власть и наводил свои порядки в городах, вчерашние батраки занимали барские усадьбы, устраивали в них «коммуны», но сколько не притворяйся, что принял это страшное новое, согласился с ним – старое, привычное от века, глядит из каждой щелки, и только и ждет, чтобы напомнить о себе.
…После еды Дуня поторопила ее:
– Давай, панночка, пошевеливайся, мени хату прибирати треба, а тебя, чай, в кульпросвете заждались! Топай швидче, пока за тобой хлопцев не прислали…
«Что же я, все-таки под арестом тут, в вольной анархической республике? Караулят меня, чтобы не сбежала?» – вопросы повисали у Саши на губах, но она так и не решилась задать их вслух – может, и к лучшему… Кто знает, кому и что докладывает хваткая и не в меру зоркая Дуняша.
Она привычно собралась для выхода, в который раз спросив себя, куда же все-таки исчез чемодан, что был с нею в поезде, вместе с дамской сумочкой и документами, и нет ли надежды их отыскать… Бог с ними, с вещами, но без паспортной книжки, с таким трудом выправленной в Москве, попасть в Екатеринослав – или куда-нибудь еще, с учетом нынешней тревожной обстановки и полыхающих повсюду междоусобиц – будет ох как непросто… особенно после неожиданных гостин в Гуляй Поле.
Здравый смысл подсказывал обратиться с просьбой к самому атаману Махно, если уж не разыскать ее паспорт, то выписать новый документ (насколько Саша поняла намеки Всеволода Яковлевича, здесь, в вольной республике, изготовить здесь можно было любую справку – требовалось лишь дозволение батьки). Выписать новый документ и отпустить подобру-поздорову, на все четыре стороны…
Почему бы Нестору и не согласиться? Это стало бы завершающим – и гармоничным – аккордом их внезапного бурного «романа», если так можно было назвать неистовое, хмельное безумие, что заставляло мужчину и женщину сплетаться в сладострастных объятиях, вот уже семь ночей подряд.
Ночью они принадлежали друг другу всецело, и губы, языки использовали не для слов – для поцелуев… Наступал день, просыпался разум и металлическим голосом маменьки твердил, что Саша навсегда опозорила себя и честное имя семьи… что скоро она надоест атаману, или он решит, что негоже ему, крестьянскому вождю, делить постель с «панночкой», дворянкой, офицерской вдовой, и либо милосердно убьет сам, либо передаст надоевшую игрушку кому-нибудь из своих хлопцев… например, Щусю, что с первой встречи смотрит на нее голодными глазами, или другому командиру, тоскующему по женской ласке. А может статься и такое, что ревнивая «махновка», из атамановых бывших – или нынешних – любовниц, подольет отравы в чай или плеснет кипятком в лицо.
Галина Андреевна, «Галочка», как выяснилось за эти дни, в браке с Махно не состояла, учительствовала себе, да еще занимала должность «секретаря» при атаманском штабе.12 Вела она себя воспитанно, держала чинно, но каждый раз при взгляде на Сашу темные глаза ее превращались в револьверные дула… Виделись они не так чтоб часто, наедине оставались и того реже – Сева за этим следил – и все же Саша кожей чувствовала Галочкину неприязнь. Женский инстинкт не позволял ошибиться, а уж то, как Галочка, стоя или сидя рядом с ней, жадно тянула носом, гневно морщилась и едва не скалилась, чуя на сопернице запах Нестора, и вовсе пугало до холода в животе…
В совокупности все это подводило к очевидному решению – надо бежать, бежать, и чем скорее, тем лучше. Она и так застряла на целую неделю, что в нынешних обстоятельствах было непростительно много. Но как сбежишь, без денег, без документов, смутно представляя маршрут? Как незаметно сесть в «фаэтон», что ни день катавшийся от базарной площади, или напроситься на подводу – и добраться хотя бы до станции?..
Однажды Саша попыталась, под видом затянувшейся прогулки среди тополей и берез, выйти за околицу, туда, где начинался Мариупольский шлях, но почти сразу же ей заступил дорогу рослый хлопец в смушковой шапке, до этого вроде бесцельно слонявшийся поодаль… Он ничего не сказал, оружием не грозил, руками не размахивал, но Саша не стала испытывать судьбу и повернула обратно, к Соборной, к зданию культпросвета.
День «на службе» пролетал быстро и, надо признать, вовсе не скучно – у Севы всегда находились для нее осмысленные занятия: то что-нибудь нарисовать, то написать или перепечатать, и он не скупился на похвалы и комплименты за ее расторопность и «самоотверженную помощь». Приходили и уходили разные люди, приносили кипы бумаг, забирали газеты, рассматривали плакаты, о чем-то совещались или спорили с Волиным. В соседней комнате стучал молоток, скрипела стамеска: там сколачивали декорации для народного театра…
Батькины «хлопцы», по разным надобностям залетавшие в культпросвет, натыкаясь на Сашу, таращились на нее, как пьяные, но ни один не приставал и даже не пытался заговаривать.
Раза два в день обязательно делали перерывы на чай и на обед; тогда обстановка становилась совсем непринужденной, дружеской. Осмелев, Саша интересовалась насчет расписания поездов, идущих через Гуляй Поле, и возможностью попасть на почту… чтобы отправить хотя бы открытку в Екатеринослав, если нельзя позвонить или отбить телеграмму – но товарищ Волин отвечал как-то уклончиво, прятал глаза и при первой возможности сбегал. То ли не хотел связываться, то ли боялся батьки Махно… а скорее всего, и то, и другое.
Сам Нестор Иванович, чем бы ни был занят, в кульпросвет не заглядывал – тот неожиданный визит с «инспекцией», в первый день Сашиной «службы», за неделю ни разу не повторился; не встречался ей Махно и в других местах, куда заглядывала по случаю, выходя подышать, или с каким-нибудь поручением Севы…
Это было странно, потому что в Гуляй Поле он, казалось, был везде и всюду, его имя звучало на каждом углу, громко и грозно:
– Батько йидет! Батько Махно пройихав с хлопцами! Атаман велел збиратися к управе, мануфактуру будуть роздавати, кому сколько треба! Нестир Иваныч сказал – бери, що тоби потребно, але принось, що не потребно, може, воно кому иншому сгодится!
Махно ждали, звали, чуть не молились ему, всем-то он был нужен, а то – сам посылал вестового за нужными людьми, и те мчались с вытаращенными глазами, как на пожар:
– Батька до себя зовет! А ну, отыди с дороги, мне до атамана треба!
Глядя по сторонам, слушая разговоры, впитывая дурман казачьей вольницы, замешанный на медвяных степных травах, крови и самогоне, Саша начинала верить, что Нестор здесь и вправду кто-то вроде крестьянского сказочного царя, берущего у богатых, чтобы раздать бедным… женящего холопов на панночках…
Вот только увидеть его, пока солнце стояло в зените, нельзя было даже издали, словно атаман от нее прятался…
«Нет, нет, что за нелепость!» – Саша, краснея, гнала подобные мысли. Грозный батька Махно, одним своим взглядом приводивший в трепет и усмирявший самых отчаянных сорвиголов, не стал бы нарочно вести себя как влюбленный гимназист. Скорее все наоборот: это она – влюбленная гимназистка, начитавшаяся баллад про Робин Гуда, и навоображавшая бог знает что…
***
Сегодня работы в культпросвете было немного, и Галина Андревна, к счастью, не показывалась…«поехала навестить отца в соседнее село», – насплетничал Сева, прежде чем положить перед Сашей кипу рукописных заметок, какие требовалось перепечатать. Сам он выглядел встревоженным, постоянно читал телеграммы и газеты, привезенные с почты, и сам что-то писал в толстой тетради, бормотал под нос…
– Вот попомните мои слова, Александра Николаевна: немцы скоро уйдут… и этому кретину Скоропадскому недолго осталось сидеть в Катеринославе!
– Что?.. – она вздрогнула, услышав про Екатеринослав, но Сева только рассеянно улыбнулся, моргнул близорукими глазами – и снова уткнулся в газеты и забормотал.
До Саши долетали слова «всеобщая трудовая повинность», «буржуазные элементы», «Украинский национальный союз», «встреча Скоропадского с кайзером», «сближение с Германией», но уточнять, о чем идет речь, равно как и лезть Волину в душу, она не стала. Механически нажимала на клавиши машинки, думала о своем…
Долго ли, коротко ли, но и этот день закончился, наступил вечер, пришло время идти домой.
Саше самой было удивительно, что она стала считать «домом» хату с выбеленными стенами, посреди фруктового сада, где днем хозяйничала Дуняша и еще какие-то непонятные женщины, исчезавшие в сумерках, а вечером – появлялись мужчины из близкого окружения батьки, собирались за столом, ели, пили, разговаривали серьезно о своем мужском, военном, страшном, громко спорили, слушали граммофонные пластинки, пели под гармошку или гитару… За неделю раза три приходил Щусь, с ним еще какой-то командир, светловолосый и молчаливый, и почти каждый вечер являлись Лева Задов с неизменным Волиным.
Иногда женщин приглашали за стол, иногда – нет, и тогда они с Дуняшей ютились за занавеской, в спасительном кухонном закутке… там и «вечеряли», и болтали потихоньку, пока не приходило время бочком пробираться «до лежанки». Саше так было спокойнее; в присутствии чужих мужчин, если рядом не было Нестора, она чувствовала себя неуютно, точно раздетая; он же всегда возникал неожиданно, то рано, то поздно, то хотел ужинать, то заявлял, что «втомився як конь на пашне, спати треба», то вовсе не появлялся на пороге… и Бог знает, как позже возникал в темной горнице – проходил ли сквозь стену, перекидывался в кота или в самом деле обращался в чудо-змея, что летает на семи ветрах, и хвостом длинным, языком огненным, умелым, смущает молодых вдовиц?..
… – Стой, стой, куды ты, диявол! Стой, бисова душа, ведьмачье отродье! – громкая мужская брань и злобный, пронзительный визг жеребца ударили Сашу по ушам, пробудили от раздумий, и она сильнее сжала локоть Волина, на сегодня ставшего ее провожатым:
– Что такое, Всеволод Яковлевич?..
– Ничего, ничего, не бойтесь, Александра Николаевна, – Сева ускорил шаг, чтобы побыстрее миновать приземистое деревянное строение, прилепившееся сбоку к трехэтажному каменному дому: должно быть, он раньше принадлежал какому-нибудь местному пану, а ныне превратился в учреждение, полезное для анархической республики.
Саша поддалась было руке Волина, поспешила за ним, но тут нос почуял знакомый запах конюшни… не крестьянского хлева, где грустные рабочие клячи топчутся вместе с козами и овцами, не навеса с коновязью, возле которой нервно отплясывают поседланные боевые кони, готовые вот-вот сорваться в бешеный карьер – а настоящей конюшни, лошадиного дома, где ухоженные, породистые рысаки стоят в просторных, вычищенных денниках и вальяжно пережевывают отборный овес и душистое сено. Такой, как была у них в Васильевке, пока усадьбу вместе лошадьми не реквизировали «в пользу революционной власти»… и такой, как при казармах в Петербурге, где был расквартирован на зиму отцовский полк…
– Аааа… стой, чертяка!!!
– Ииииии… Ииииии!!!
– Петро, обережно, обережно! Вин забьет тебе, забьет, бис!
– Саша! Саша, куда же вы? Там опасно, вернитесь! – вскрикнул Сева, но удержать не смог, и только растерянным взглядом проводил барышню, ни с того ни с сего бросившуюся в конюшню, где двое махновцев тщетно пытались усмирить жеребца, чтобы поставить на растяжку…
Она влюбилась с первого взгляда. Сухой, тонконогий, длинный красавец, большеглазый и словно огнем дышащий, угольно-черный, блестящий, с пышной густой гривой… Орловский рысак, самых чистых кровей, бог знает как попавший в Гуляй Поле – трофей, захваченный в бою, а может, реквизированный, как и все прочее добро, у незадачливого помещика.
Жеребец злился, визжал, прижимал уши. Хлопцы наступали на него с двух сторон, пытались то ухватить за повод, то оттеснить задом к открытому деннику, а он дыбился, отплясывал на задних ногах какого-то адского трепака, передними копытами бил в воздухе, метился попасть наседавшим прямо в лоб. Скалил зубы – и тут уж совсем превращался в страшилище, беса, черта…
– Да ты с глузду зъихала, жинка, куды лезешь до жеребца?! – заорал, заметив Сашу, один из незадачливых конюхов. – Забирайся, пока цела!
Второй отскочил подальше и тоже замахал руками:
– Забирайся! Забирайся! – а жеребец завизжал еще злее…
Она все еще плохо понимала местный диалект, но сообразила, что ее приглашают не в седло взобраться, а проваливать по добру-по здорову… а еще, как назло, вспомнился хриплый шепот Нестора в их первую ночь:
«Ты жеребца на дыбы подняла – тебе и усмирять его, любушка…» – и «любушка», с пылающими щеками, опустив руки вниз и развернув их ладонями, стала подходить к вороному дьяволу…
– Александра Николаевна! – дрожащий, умоляющий голос Волина за спиной только подстегнул азарт.
Саша прекрасно помнила все отцовские уроки: не бояться или хотя бы не показывать страх, двигаться плавно, руки держать по бокам, ладонями вверх, говорить мягко, отчетливо, негромко… Помнила она и Горделивого, первого горячего и норовистого рысака, носившего ее по вспаханному полю…
– Тшшшш… тихо… тихо, мой голубок… – медленно, плавно покачала руками, жеребец, будто удивленный, остановился, ворчливо зафырчал… прижал уши – Саша остановилась, заговорила снова:
– И кто тут у нас такой горячий… кто у нас как нервная барышня?..
– Та Оська он! – неожиданно подсказал кто-то из хлопцев. – Овсей Овсеич…
– Ах вот что… – Саша говорила все так же мягко, сделала еще шаг вперед, теперь между ней и жеребцом было не больше аршина.
Овсей Овсеич повернул голову, снова зафырчал, поплясал немного… и осадил назад, нерезко, просто отошел на пару шажков – ну точно па в танце сделал.
– Овсей Овсеич, очень приятно… а меня Сашей зовут…
– Фрррррррр… тпрррррр… фррр! – жеребец встал перед нею, чуть склонил голову набок, глянул с явным лукавством… сам сделал шажок вперед. И вдруг потянулся длинной мордой к ее карману: дескать, ну-те, ну-те, барышня, что это там у вас лежит?..
Тут Саша и вспомнила про кусочек сахара, который незаметно спрятала, когда они пили чай: не любила сладкий кипяток, а заботливого Севу, все подкладывавшего ей колотый сахар, обижать не хотелось…
– Ах ты, махновец… анархист… – она протянула сахар, мягкие черные губы тотчас ухватили, крупные зубы захрумкали. – Реквизиция, значит… хорошо…
– Грицка, хозяина евонного, в бою убили, – вдруг сообщил тот хлопец, что кричал на нее; то ли устыдился, то ли резко осмелел, но подошел поближе, и конь подпустил.
– Вот он и лютуеть… Не жреть! Третий день не жреть…
– Я бы на его месте тоже перестала есть… – вздохнула Саша, некстати вспомнив, как кричал и бился в деннике Горделивый в тот день, когда они получили с Юго-Западного фронта черную весть о гибели отца…
– Чегось? – насторожился махновец, для которого московский говор был столь же непривычен, как для нее – малороссский, но подоспевший Волин отодвинул его в сторону, и снова попытался уговорить Сашу уйти:
– Александра Николаевна, я восхищен, восхищен!.. Как вы ловко управились с этим зверем… уверен, восхищен буду не только я… но теперь, прошу вас, пойдемте, нас ждут, а эти славные ребята справятся и без нас…
– Идите, Всеволод Яковлевич, я вас не держу… Передайте там мои извинения… Я хочу еще побыть здесь… может, попробую сама накормить Овсея Овсеича ужином.
Она положила ладонь на теплую мохнатую шею жеребца – тот довольно всхрюкнул, переступил, игриво толкнул ее лбом, и женское сердце растаяло, как масло на горячей сковороде:
– Ах ты, мой хороший… красавец… красавец… – снова погладила, почесала лоб, и Овсей точно захихикал, снова толкнул ее, принялся жевать рукав…
Саша поняла:
– А поседлайте-ка его мне, хлопцы… Застоялся он у вас без работы, вот и «лютуеть», вот и не «жреть»… Вечер сегодня такой чудный, покатаемся.
Оба парня так и вытаращили на нее глаза, бедный Сева за голову схватился, и тот конюх, что был посмелее, едва в падучей не затрясся от возмущения:
– Поседлать? Да що вы такое удумали, мадамочка! Та щоб баба да на Грицкова коня… не бувати тому! Оська теперича за самим батькой Махном записаный, ось вже атаман буде решать, кому на ньом йиздить!
– Я буду. – спокойно сказала Саша, и вдруг поняла, что так и случится… и неважно, что там решит или не решит батька Махно – ей бы только оказаться в седле, выиграть время. А Сева… что Сева? Он тоже понял, шепнул что-то хлопцу, посмотрел строго, и тот не посмел больше возражать товарищу Волину: верно, знал, что этот мягкий с виду «интеллихент» в очках имеет вес в Гуляй Поле.
***
– Обережно, мадамочка, обережно!.. Це ж бис, а не конь! – летело Саше в спину, когда она, дрожа с головы до ног, как от любовного восторга, выводила взнузданного и заседланного Овсея из конюшни. Это был царский рысак, под стать крестьянскому царю, и амуниция на нем тоже была царская: уздечка украшена серебром, казацкое седло с высокой лукой, тоже разукрашенное – настоящий трон, даже потник – не простой, а черный, анархистский… Сердце Саши, от непомерной дерзости ее затеи, трепыхалось, как птица в силках, кровь шумела в ушах, но сейчас она не отказалась бы от задуманного, даже рискуя получить пулю или сабельный удар.
12
В 1918 году Кузьменко еще не была в близких отношениях с Махно, работала секретарем, но делала все, чтобы помешать его романам с другими женщинами.