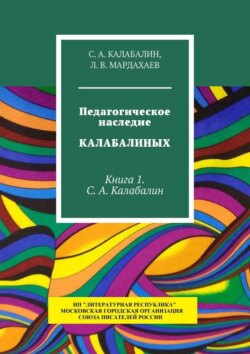Читать книгу Педагогическое наследие Калабалиных. Книга 1. С.А. Калабалин - С. А. Калабалин - Страница 5
РАЗДЕЛ 1. Бродячее детство1
Я становлюсь поводырём
ОглавлениеОказалось, что в Полтаве жить можно. Кому воды наносишь, кому дров наколешь – покормят да ещё дадут две-три копейки. Скоро нашёлся у меня дружок. Вместе с ним мы шныряли по городу, искали где заработать, вместе просили милостыню, вместе и жили. Да, представьте себе, нашли мы и жильё. В прежнее время богатые семьи строили на кладбище склепы. Это были крытые помещения, построенные солидно, с дверями, запиравшимися на замок. Так сказать, место коллективного успокоения всей родни. Один из них мы приспособили под жильё.
Сорвали замок с двери, натаскали сена, а со временем на валке нашли печурку и даже подтапливали в холодные ночи. Было, конечно, голодновато, но жили. Впрочем, сытно я и раньше не жил, так что не огорчался.
Над Полтавой на холме стоит Крестовоздвиженский монастырь. В воскресные и праздничные дни на дороге к монастырю собирались нищие со всей
Полтавы. Подавали там хорошо. С утра выстраивались безногие и безрукие, глухие, слепые и припадочные. Шедшие в церковь и возвращавшиеся из церкви раздавали убогим по копейке или по две, а все просящие показывали своё убожество, гнусавили, просили, молились и пели. Мы с приятелем в праздничные дни пристрастились ходить в монастырь. Мы тоже стояли в ряду убогих и тоже просили, выставляя на вид свою детскую беспомощность, грязь и лохмотья. Не бывало так, чтобы к вечеру мы не насбирали на пироги с ливером.
Конечно, об одежде нечего было и думать. Впрочем, лохмотья меня ничуть не смущали, и, пока не наступили холода, я никакой нужды в обуви не испытывал. А ещё до холодов, в октябре месяце, в судьбе моей произошла неожиданная перемена.
Дело было так: в одно из воскресений стоял я на дороге к монастырю и без конца повторял какие-то, раз навсегда отработанные фразы о том, что я бедный сиротка и что буду за подавшего копеечку бога молить, словом, то самое, что говорить полагается.
И вдруг передо мной остановился человек. Одет он был в пиджачную пару, в рубашку, подпоясанную шёлковым шнурком, на голове красовалась шляпа с красиво загнутыми полями. На вид показался он мне богатым. Для меня это была единая категория и в тонкостях я не разбирался. Учитель или помещик, купец или чиновник, мне было всё равно. Все эти люди принадлежали к знакомому мне только по виду племени богатых людей. Так вот, человек, остановившийся передо мной, был богатый, пан.
– Ты чей? – спросил он меня.
Хорошо помню, что смотрел он мне прямо в глаза властным, подчиняющим взглядом.
Вопрос не показался мне странным. Я объяснил, что пока как будто ничей.
– Хорошо, – сказал он, – пойдёшь со мной!
Я и пошёл с ним. Мне даже в голову не пришло спорить.
Он привёл меня в двухэтажный каменный дом. Мы поднялись на второй этаж. Вошли в квартиру. По тогдашним моим понятиям, она мне показалась царской палатой. Нас встретила девушка, прислуга, как тогда говорили. Мой загадочный хозяин подтолкнул меня к ней.
– Оденешь, – сказал он коротко и ушёл в глубину квартиры.
Мне дали старые сношенные башмаки. Лохмотья, в которые я был одет, сочли удовлетворительными. В них только нашили заплаты, причём разных цветов, чтоб они бросались в глаза. Спать меня отвели в дворницкую, внизу.
Как я сейчас вспоминаю, мне не казалось ни удивительным, ни безобразным то, что мною распоряжаются, не спрашивая моего согласия. Человек в пиджачной паре и шляпе мог распоряжаться мной как ему было угодно. Это не подлежало сомнению. Спорить тут было не о чем. Я без возражений выполнял всё, что мне приказывали. Не помню, чтоб я особенно и огорчался. Случилось так, могло случиться иначе. Поесть мне дали. Я спокойно заснул.
Утром меня повели наверх к хозяину. Я сначала даже не узнал его. Он был одет в сношенный, порванный армяк, и во внешности его ничего не осталось от облика богатого человека. Это был нищий, такой, каких я видал десятки у себя в селе. Только лицо было то же. Нет, и лицо было другое. Куда девался его уверенный, повелительный взгляд. У него вообще никакого взгляда не было. Его глаза просто не видели. В каждой руке он держал по большому посоху. На каждом посохе висело по торбе. Ещё две торбы висели у него за плечами.
Две палки поменьше дали и мне.
– Я слепой, – сказал мне хозяин, – ты понял? Я слепой!
И это тоже не показалось мне удивительным. Я так мало знал о том, как устроен мир, что не мог различить обыкновенное и необыкновенное. По совести говоря, я и не вдумывался в то, что происходит. Раз происходит, значит так и надо.
Мой хозяин взял меня за плечо, ведь он был слепой, а я его поводырь, и мы вышли из дому. Хотя поводырём был я, но его рука уверенно мне сигнализировала, где идти прямо, а где свернуть. Когда мы вышли из города, он объяснил, что звать я его должен дедушка Онуфрий, что будем мы с ним просить милостыню, что бы я не вздумал утаить что-нибудь, потому что он хоть и слепой, а всё видит, что я должен петь молитвы и просить.
Видно, я был у него не первым поводырём и технику обращения с нашим братом он разработал здорово. Мы вышли из города и отправились бродить по Украине.
Мы обошли Полтавщину, Киевщину, Екатеринославщину. Медленно двигались мы по пыльным улицам сёл, монотонно гнусавили свои унылые просьбы, обрывки молитв, жалобно протягивали руки, неистово крестились. Подавали нам хорошо. Кто не подаст слепому старцу, он прямо на глазах становился немощным старцем, когда мы входили в село, который по убожества своему только и жив подаянием да помощью этого маленького невинного хлопчика.
Сейчас я довольно высокий человек, но расти начал лет с пятнадцати, а в то время, хотя мне уже исполнилось двенадцать, я выглядел лет на десять, не больше.
Да, подавали нам хорошо. Нам подавали и хлеб, и сало, и муку. Иной раз и кусок полотна длиною в аршин, а то и больше. Подавали и яйца, подавали и деньги: копейку, а то и две. Иной раз богомольный лавочник давал и гривенник.
Если бы знали подающие, каким мерзавцем был дедушка Онуфрий!
Он меня бил и щипал нещадно. Не за что-нибудь, а просто так, из удовольствия мучить. Он любил неожиданно схватить меня за уши и поднять в воздух, так что несколько часов после этого у меня шумело в ушах и трещала голова. Он обладал зоркостью орла этот жалкий слепец, дрожащей рукою державшийся за поводыря. Если хозяйка, подав милостыню слепому совала и мне грошик или кусочек сала, то как только мы выходили со двора, он сразу же хватал меня за руку.
– Отдай, – говорил он зло. И хоть я никогда не спорил и сразу отдавал, он всё время подозревал, что я обкрадываю его. Ох, каким безжалостным, каким злобным был он, пока никого вокруг не было. Но вот мы входили в село, и снова шагала по улице трогательная пара: беспомощный несчастный слепец и маленький хлопчик, единственная его опора.
Мы пространствовали с ним месяцев семь или восемь. За это время дважды мы приходили в Полтаву. Дома мой хозяин преображался. Он мылся в бане и надевал пиджачную пару. Снова он был важный, барственный человек из племени богатых. Он и действительно был богат. Я теперь считался в доме почти своим, и дворник (я по-прежнему ночевал в дворницкой) рассказал мне, что этот каменный дом принадлежит моему слепому и, кроме того, у него ещё два дома в Полтаве. Отдохнув день-другой, мы снова уходили, и снова шли по сёлам, и дедушка Онуфрий бормотал благодарственные молитвы, принимая милостыню от крестьянина, богаче которого он был в тысячу раз.
Очень скоро я понял, что нищенство не простое дело. Сто человек не смогли бы съесть то сало, те яйца, тот хлеб и муку, которые мы выпрашивали. Раз в неделю заходили мы в какие-то особенные дома, в которых нас уже ждали. Тут кипел самовар и стояла водка. Меня выгоняли в сени, но я подглядывал, когда отворялась дверь, а иногда про меня забывали, и я пробирался в комнату. Шли какие-то финансовые операции. Оценивалось выпрошенное сало, выпрошенный хлеб и выпрошенные куски полотна. Грошики и копейки обменивались на золотые десятки. Торбы наши после каждого такого посещения становились пустыми.
Примерно раз в месяц, тоже в заранее, очевидно, условленный день, приходили мы в дом, в который одновременно с нами приходило ещё много таких же, как мы, нищих. Больше всего, пожалуй, было слепых. Мужчин вели такие же мальчики, как я, женщин – девочки-поводырки десяти-двенадцати лет. Были ли среди слепых настоящие слепые? Не знаю. Я долго после того, как убежал от дедушки Онуфрия, не мог отличить слепого от зрячего. Во всяком случае, в этом доме они не выглядели жалкими. Начиналось пьянство. Пили одинаково мужчины и женщины, пили и засыпали, валились на стол или на лавку, просыпались и пили снова. Гульба и пьянство шли несколько дней. Счастье моё, что не понимал разврата, потому что разврат был циничный и откровенный. Я многого не видел, а из того, что видел, многого не понимал. Понял гораздо позже, когда мне это было уже не страшно.
Мы, поводыри, сидели в сенях, хотя там и было холодно. Нас не пускали в хату не потому, что стеснялись, а просто что б мы не путались под ногами. Но и кормить не кормили. Иногда только хозяйка дома выносила нам кучу объедков, которые мы с жадностью разбирали. Интересно, что в селе, в котором происходили эти пьяные оргии, мы никогда не просили милостыню. Это было по меньшей мере благоразумно. Вряд ли в селе можно скрыть многодневную попойку.
Если бы дедушка Онуфрий знал меру и не очень издевался надо мной, возможно, что я долго ходил бы с ним, помогая ему вызывать слезу и выпрашивать подаяние у добрых украинских крестьянок. Но моя безропотность словно подхлёстывала его. Он бил и мучил меня месяц от месяца безжалостнее и чаще.