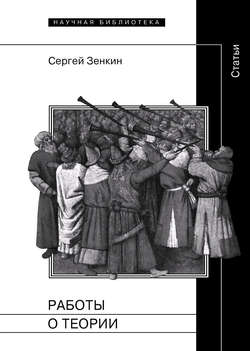Читать книгу Работы о теории. Статьи - С. Н. Зенкин - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПОСТУПКИ И ИДЕИ
СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЕГО СМЫСЛ
Оглавление(Историческая герменевтика после Рикёра)
Задача этой статьи – проанализировать одну теоретическую гипотезу, предложенную Полем Рикёром, и выяснить следствия, вытекающие из нее для гуманитарных наук. При этом придется рассматривать философские идеи Рикёра извне – не в собственно философском контексте, а в поисках другой интеллектуальной области (или областей), где данные идеи могут оказаться релевантными. В известном смысле подобный подход может быть назван герменевтическим, так как он ставит себе задачей не только выяснить авторские интенции, но и (возможно, даже в большей степени) распространить их на другие поля и тем самым сообщить им новый смысл, которого сам автор мог и не сознавать. «Понимать автора лучше, чем он мог понимать сам себя», – таков знаменитый призыв Шлейермахера; чтобы это сделать, мы должны дистанцироваться от авторской интеллектуальной позиции, занять такую точку зрения, которую он не имел в виду. Сам Поль Рикёр не раз подчеркивал важность дистанцирования в герменевтическом процессе, и его философия всегда была открыта для диалога с различными гуманитарными науками[20]; такой дистанцирующий жест можно осуществить и в обратном направлении, то есть с позиции гуманитарных наук, и это не будет противоречить методологическим убеждениям философа. В том же смысле ниже мы постараемся показать, что герменевтика должна не только находить, но и придавать смыслы.
Гипотеза[21], о которой идет речь, – это гипотеза о гомологии между текстом и социальным действием. Рикёр выдвинул ее в 1970-х годах, особенно в статье «Модель текста: осмысленное действие, рассматриваемое как текст» («Le modèle du texte: l’action sensée considérée comme un texte»), первоначально опубликованной по-английски в 1971 году, а затем перепечатанной по-французски в книге Рикёра «От текста к действию» (с. 183–211)[22]. В позднейших своих работах, в частности в двух больших трудах позднего периода – «Время и рассказ» и «Память, история, забвение», – он перешел к специфической трактовке этой гипотезы, сближая социальное действие не с текстом вообще, а с рассказом, нарративом, «историей»; однако его первоначальная идея «текста» по-прежнему остается продуктивной и допускает методологическую интерпретацию, не исследованную самим философом. Почему Рикёр оставил эту идею? Возможно, он не был уверен в том, что она верна; но еще вероятнее – потому, что она выходила за рамки его метода, поскольку не могла быть верифицирована в пределах чисто философской рефлексии и требовала «позитивных» научных исследований. В качестве философа Рикёр мог только наметить эту возможность, а затем передать ее для дальнейшего развития специалистам по общественным наукам.
Изложим вкратце ход рассуждений Рикёра. Прежде чем заявить о гомологии между текстом и социальным действием, философ конструирует так называемую «парадигму текста» (с. 184) путем двухэтапного диалектического движения: язык (в соссюровском смысле, то есть система языковых правил) реализуется в дискурсе (акте или процессе высказывания), а тот в свою очередь фиксируется в письменном тексте.
На первом этапе Рикёр противопоставляет язык и дискурс как абстрактное/конкретное: 1) язык виртуален, тогда как дискурс «всегда реализован во времени и в настоящем» (с. 184); 2) «языку не требуется никакого субъекта», тогда как «дискурс отсылает к говорящему посредством ряда шифтеров, таких как личные местоимения» (с. 184); 3) «знаки языка отсылают лишь к другим знакам внутри той же системы», а потому «язык обходится без мира», тогда как «дискурс – всегда о чем-то» (с. 184)[23]; 4) наконец, язык не имеет адресата, а у дискурса есть «другой – собеседник, к которому он обращен» (с. 185).
На втором этапе рассуждения конкретность, обретаемая дискурсом, вновь дистанцируется, диалектически отрицается в тексте, не зависимом от своего дискурсивного источника, от акта высказывания, которым он был произведен: 1) текст несет в себе не акт высказывания, а только значение этого высказывания, его семантическое содержание, включая его словесно выражаемую иллокутивную силу – «не событие говорения, а “говоримое” в речи» (с. 185); 2) он разделяет «интенцию автора и интенцию текста» – они в нем «перестают совпадать» (с. 187), так как значение более не поддерживается «всевозможными процессами, которыми поддерживается и делается удобопонятной устная речь, – интонацией, мимикой, жестами» (с. 187); 3) он преодолевает непосредственную ситуацию высказывания, его референцию нельзя указать, а тем самым он отсылает к миру как «совокупности референций, открываемых текстами» (с. 188)[24]; 4) он адресуется «неведомому, невидимому читателю» (с. 190), который не находится в отношении «лицом к лицу» с автором и в пределе может отождествляться с любым человеком, умеющим читать.
Осуществляемое Рикёром двухэтапное и трехчленное диалектическое конструирование «текста» до некоторой степени напоминает схему герменевтического круга. В самом деле, язык дает нам абстрактное понятие о возможных значениях высказывания (своего рода «предпонимание»), дискурс возвращает нас к конкретности акта высказывания, а письменный текст снимает это противоречие, образуя целостное и вместе с тем множественное значение, зависящее от разнообразных ситуаций, в которых он может читаться.
Построив свою «парадигму текста», Рикёр далее распространяет ее на «осмысленное действие», то есть на такое действие, которое может определить, охарактеризовать сам агент[25]. Согласно гипотезе, такое действие может рассматриваться как текст, поскольку, подобно тексту, оно дистанцировано, отделено от события говорения/делания; в результате мы можем и должны интерпретировать действия как тексты. Здесь начинается новый круг диалектико-герменевтического процесса, и ниже мы попытаемся критически прокомментировать четыре аргумента, выдвигаемых Рикёром и соответствующих четырем отличительным чертам текста.
Первый аргумент. Подобно тому как текст материализован в письме, действие объективировано: оно не может оставаться чисто ментальным, и, добавляет Рикёр, его значение отделено от самого события[26]. Данный аргумент касается не столько локутивных, сколько онтологических аспектов действия. Как утверждает Рикёр, действие «являет собой структуру локутивного акта» и обладает «пропозициональным содержанием» (с. 191), однако в то же самое время оно «содержит “иллокутивные” признаки, весьма схожие с признаками полного речевого акта» (с. 192). Другими словами, действие всегда можно описать более или менее сложной словесной фразой, содержащей специфический предикат действия и некоторое количество дополнений (они могут обозначать, например, «где», «когда», «каким образом», «с чьей помощью» и т. д. агент совершает свое деяние); однако, как и в тексте, семантическое значение сочетается в нем с «иллокутивной силой» (с. 193), позволяющей ему оставить след (marquer) в своем времени. Данный пункт – по-видимому, самый проблематичный из всех рикёровских тезисов. В самом деле, он опирается не столько на практическую реальность действия, сколько на его словесное описание. Структура действия кажется пропозициональной именно потому, что мы описываем действие с помощью языковых фраз, потому что мы можем применять к нему семиотическую метафору «следа»/«метки». Следует помнить, что объектом размышлений Рикёра служит не любое, а только «осмысленное» действие, действие, которое может охарактеризовать сам агент: «Я делаю то-то с такой-то целью, такими-то средствами» и т. д. Как представляется, Рикёр попадает здесь в логический (не герменевтический!) круг: чтобы доказать гомологию между действием и текстом, он вынужден изначально предполагать некоторую языковую основу этого действия – то есть находит в действии то, что сам же в него заложил. Такое панлингвистическое воззрение он заимствует из англосаксонской «философии действия»[27], экстраполируя на действие логический подход и рассматривая действие как особого рода мышление и/или говорение[28]. Одновременно он пытается редуцировать существенное различие в интерпретации, прилагаемой к тексту или действию: в то время как текст интерпретируется внешним наблюдателем/читателем, интерпретацией действия занимаются другие агенты – партнеры действующего лица. Разумеется, иллокутивные факторы устного высказывания («дискурса», в терминах Рикёра) сближают это высказывание с действием, придавая ему действенную «силу»; оттого-то Рикёру так важна теория речевых актов. Можно, однако, возразить, что как раз письменный текст, отделяющийся от своего «порождающего» акта высказывания, утрачивает по крайней мере часть этой силы в пользу абстрактных знаковых структур. Если же рассматривать действие с удаленной точки зрения, как некий остаток прошлого, тогда оно действительно сближается с «текстом»; но хотя общие предпосылки такой перефокусировки зрения достаточно очевидны (они заключены в самой структуре языка, служащей для описания действий), в рассуждениях Рикёра не объясняется, каким образом она конкретно осуществляется; мы еще вернемся ниже к этому вопросу.
Продолжим наш критический анализ. Второй аргумент Рикёра проводит параллель между статусами автора текста и субъекта-действователя. Действие обретает автономию от своего автора, и «такая автономизация человеческого действия образует социальное измерение действия» (с. 193). Социальные действия часто трудно бывает приписать одному конкретному «автору»; их отдаленные последствия тем более не контролируются самими агентами – и точно так же обстоит дело с текстом, который оставляет позади написавшего его человека и циркулирует в открытом пространстве возможных прочтений. В статье «Что такое текст?» (1970) Рикёр для пояснения этой независимости воспользовался выразительной метафорой:
Иногда я люблю говорить, что читать книгу – значит рассматривать ее автора как уже мертвого, а книгу – как посмертную. Действительно, именно после смерти автора наше отношение к книге становится целостным и как бы неприкосновенным: автор больше не может ответить, нам остается только читать его произведение (с. 139).
В 1970 году слова «смерть автора» звучали как отзвук одноименной статьи Ролана Барта (1968); однако у Рикёра их значение несколько иное[29]. По Барту, автор «умирает», исчезает в самом процессе написания текстов: текст (не любой, но современный литературный текст) сам спонтанно производит себя в безличной игре языковых возможностей; у него нет «автора» с самого начала. По Рикёру, у текста был автор – он создал текст, но он более не контролирует его обращение и толкование в обществе; автор «умирает» после написания текста, поскольку он писал его для будущих читателей, а не произносил здесь и сейчас для актуальных слушателей[30]. Вместе с тем в обоих случаях предпосылкой или следствием «смерти автора» является активная роль читателя, интерпретатора: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» (Барт)[31], «текст производит обоюдную оккультацию читателя и писателя», заменяя диалог – односторонним актом чтения (Рикёр, с. 139). Сходным образом и социальное действие обретает свой полный смысл лишь в акте «чтения», практической интерпретации; до тех пор оно обладает лишь неким пред-смыслом.
Третий аргумент. Подобно тексту, осмысленное действие преодолевает ситуацию, в которой было произведено. «Ограниченности ситуаций» непосредственного диалога и текст и действие противопоставляют «открытие мира, то есть очерк новых аспектов нашего бытия-в-мире» (с. 189). В случае действия это противопоставление можно выразить через оппозицию двух видов его значимости – релевантности и важности:
…значение важного события превосходит, преодолевает, трансцендирует социальные условия его свершения и может быть вновь осуществлено в новых социальных контекстах. Его важность – это его длительная, а в некоторых случаях и всевременная релевантность (с. 196).
Мир текста или действия образуется их «неявными референциями» (с. 196), он состоит из того, что они делают возможным, хоть и необязательно наличным, – в отличие от явных референций речевого акта, отсылающего к вещам и фактам, которые можно указать in actu. При таком понимании мир имеет феноменологическую структуру, образуется из человеческих проектов; из всех рикёровских идей о структуре действия это самая феноменологическая. В статье «Герменевтическая функция дистанцирования» (1975) Рикёр прямо цитирует хайдеггеровское «Бытие и время» и заимствует из него «мысль о “проектировании самых собственных наших возможностей”, применяя ее к теории текста. Действительно, в тексте подлежит интерпретации некоторое предложение мира, мира, где я мог бы жить и проектировать в нем какую-то из самых собственных моих возможностей» (с. 114–115). Поэтому, заключает Рикёр, задача интерпретатора – не столько познать чью-то душевную жизнь (напомним, что автор «умер» и преодолен своим собственным текстом), сколько описать «предлагаемый мир», сравнимый с гуссерлевским Lebenswelt и проектируемый в тексте или действии[32]. Нам предлагается «мыслить смысл текста как исходящее из него требование – побуждение по-иному смотреть на вещи» (с. 208), – и сходным образом каждый человеческий поступок проектирует особый мир, так же как Сартр объяснял феноменологическую диалектику индивидуального и общего: «Выбирая себя, я выбираю человека вообще»[33]. Например – если продолжить мысль Рикёра, – выплачивая долг наследникам своего умершего кредитора, не знавшим о существовании этого долга (излюбленный кантовский пример нравственного поведения), человек «предлагает» мир, где от каждого должно ожидать честности; а другие люди, сооружая газовые камеры в концентрационных лагерях, тем самым «предлагают» другой мир, где жизни людей можно уничтожать по простому административному решению, под тем предлогом, что они бесполезны для государства. Не только когда мы следуем кантовскому категорическому императиву – любыми своими поступками мы неявным образом «предлагаем мир», а следовательно и отвечаем за его будущую конфигурацию.
Любопытно, что Рикёр упоминает о некоторых особенных событиях (социальных действиях), обладающих «всевременной релевантностью»; как позволяют предположить другие его произведения, он имеет здесь в виду «акты освобождения», такие как страсти Христовы, избавляющие человечество от первородного греха. В статье «Манифестация и прокламация» (1974) он писал, что уже в Ветхом завете мифические соответствия, свойственные режиму «манифестации» сакрального, уступают место «герменевтике прокламации», подвергая мифические события аллегорической интерпретации: «Космогонические мифы […] приобретают новую функцию; отныне они обозначают “начало” истории, сквозной мотив которой – история освобождения»[34]; это уже готовые тексты, и при аллегорическом чтении они превращаются, по выражению Рикёра, в «предельные выражения»[35]. Свой смысл они проецируют через много поколений и в конце концов превращаются в чистый смысл[36].
Четвертый аргумент. Подобно тексту, «значение человеческого действия также адресовано бесконечному ряду возможных “читателей”. Судьями выступают не современники, а, как говорил Гегель вслед за Шиллером, сама история» (с. 197). Этот последний тезис наименее подробно разработан у Рикёра, занимая всего несколько строк, как будто философу казалось слишком очевидным, что смысл события всегда «открыт для такого рода практической интерпретации через текущий праксис» (с. 197). Однако эта мысль заслуживает более внимательного анализа. Прежде всего, в этом пункте выясняется, какую именно «общественную» или «гуманитарную» науку имел в виду Рикёр, когда писал в начале своей статьи, что «понятие текста служит хорошей парадигмой для объекта так называемых общественных наук», а текстуальная интерпретация – «парадигмой для интерпретации вообще в области гуманитарных наук» (p. 197). Жоан Мишель определяет такую подразумеваемую дисциплину как «социотеорию» в противоположность «микросоциологии», изучающей взаимодействия «лицом к лицу», а не «великие» события, выделенные из своего непосредственно-практического контекста[37]. Сам Рикёр пользуется другим, более простым термином – история. Слово «история» много раз встречается в его тексте, тогда как «социология» практически отсутствует. Именно история, а не социология «архивирует» события прошлого и подвергает их ретроспективной интерпретации. Однако – и это второе обстоятельство, которое следует отметить, – слово «история» двузначно. Оно может отсылать к дискурсу, рассказывающему и анализирующему события прошлого (historia rerum gestarum), но может означать и сами эти события (res gestae). В гегелевской философии абсолютного духа, на которую ссылается французский философ[38], оба значения склонны совпадать, но реально Рикёр, говоря о «практической интерпретации через текущий праксис», все же отдает предпочтение второму значению. По его мысли, не (только) профессиональные историки, но (также и) обычные люди «практически интерпретируют» чужие действия посредством своего собственного социального действия; в этом смысле их можно назвать «учениками-историками»[39].
Но как же понимать эту «практическую интерпретацию»? Здесь Рикёр оказывается в точке бифуркации. Встающий перед ним выбор до некоторой степени опять-таки соответствует семантической двойственности слова – на сей раз слова «действие»: во французском, как и в русском языке оно может означать ряд поступков, целую «историю» (например, в выражении «драматическое действие»), а может и отдельный поступок (как в выражении «ответное действие»). Первое, холистическое понимание более присуще герменевтической традиции, стремящейся найти предсуществующий смысл целостного поступка/высказывания; второе, аналитическое понимание скорее свойственно структурной семиотике, которая строит смысл из отдельных элементов и занимается не только нахождением, но и созданием, приданием смысла[40].
Последовательность осмысленных поступков образует нарратив, и в таком понимании социальное действие стало предметом рикёровской философии нарратива. В книге «Время и рассказ» Рикёр сделал попытку включить идею практической интерпретации или «практического понимания» (compréhension pratique)[41] в теорию нарративной рациональности; этот концептуальный сдвиг уже предвещали некоторые его статьи, собранные в книге «От текста к действию», например статья «Практический разум» (1979). Согласно такой теории, социальная практика может рассматриваться как «мимесис I» – нарративная деятельность, происходящая в самих поступках, до и независимо от всякой их вербализации. Логично и симптоматично, что одновременно из рикёровских размышлений исчезает идея «парадигмы текста», уступая место новой парадигме – парадигме рассказа. По той же самой причине в поздних трудах Рикёра перестает работать и оппозиция «устная речь / письменный текст»: действительно, нарративный сюжет может основываться как на повседневных, так и на мифических событиях, отсылая в равной мере и к дистантно-«текстуальным», и к непосредственно-«речевым» отношениям. По той же причине история больше не может занимать привилегированное место среди дисциплин, интерпретирующих социальное действие, – эту функцию могут не хуже нее исполнять социология и психология.
Однако из рикёровской гипотезы о тексте как модели социального действия можно вывести и другой путь рассуждения, другую идею исторической интерпретации; как мы увидим, эта идея обоснована интуициями самого Рикёра. Следуя по этому пути, мы рассматриваем каждый отдельно взятый человеческий поступок как смысловое единство, отделяющееся от своего исходного контекста и подвергаемое новым интерпретациям, каковые именно и образуют исторический процесс. Тогда интерпретация состоит в присвоении новых значений действиям (посредством практических реакций, но не только их), во включении этих действий в новые семантические структуры.
Итак, в начале 1970-х годов, перейдя от герменевтики символов к герменевтике текстов[42], Рикёр оказался на перепутье, перед необходимостью выбирать между нарративным и семиотическим подходами к текстам/действиям. В то время как нарративная логика имеет дело с однородными объектами (событиями), располагающимися на одном уровне темпорально-синтагматической развертки и наделенными имманентным смыслом, – семиотическая теория, вдохновляющаяся идеями Соссюра, постулирует трансцендентное отношение между двумя уровнями: уровнем чувственно ощутимого означающего и уровнем концептуального означаемого. В семиотически понимаемом историческом процессе взаимодействуют и сменяют друг друга два рода единиц; в то время как нарративная схема подобна прямой линии, семиотический процесс идет зигзагом.
От результатов социальной концептуализации, социального осмысления зависит не только ход этого процесса, но даже и само историческое или не-историческое качество тех или иных событий.
Возьмем в качестве примера типичную ситуацию, которая с печальной повторяемостью возникает в расово-этнических отношениях. Предположим, черный парень оскорбил или подверг сексуальным преследованиям белую женщину. («Черный» и «белый» в данном случае – условные термины, которые могут варьироваться в разных обществах: скажем, в современной России «черный» можно было бы заменить словом «кавказец».) Как будут развиваться дальнейшие события? В толерантном многорасовом обществе этот человек будет морально осужден, а возможно и наказан по суду, но точно так же, как если бы оба участника инцидента принадлежали к одной группе; своим поступком он нарушил лишь обычную мораль и/или уголовное право. В обществе разделенном и озабоченном этническими различиями тот же самый акт будет рассматриваться как нарушение расовых правил, он может повлечь за собой суд Линча, бунт, межобщинные столкновения, порой с самыми трагическими последствиями. С научной точки зрения, его дисциплинарная квалификация окажется тоже различной: в первом случае им будет заниматься социология как типичным, статистически усредненным фактом, как обычным правонарушением (по-французски это называется un fait divers); во втором случае он будет занесен в хронику и станет предметом исторического исследования как единичное событие с необратимыми последствиями для социально-политического развития, как действие, очевидным образом превосходящее свою непосредственную межличностную «ситуацию» и обретающее общую «важность», поскольку оно «адресовано» – как вызов – не только жертве, но и целой общине.
Существенно, что такая «историзация» заурядного правонарушения становится возможной благодаря его социальной интерпретации, происходящей до и после самого происшествия (как выражался Рикёр в книге «Время и рассказ», en amont и en aval, буквально «вверх и вниз по течению» событий). Во-первых, в расистском обществе черный парень не может «просто» желать белую женщину, он неизбежно видит в ней запретный сексуальный объект, и его поведение с самого начала обладает значением расовой трансгрессии. А во-вторых, его правонарушение повлечет за собой социальную конфронтацию лишь в том случае, если в данном обществе широко распространены расистские стереотипы, применяемые для интерпретации отдельных инцидентов. Социальная интерпретация предшествует социальному действию (в нашем примере – оскорблению личности) и следует за ним, наделяя его моральным, а возможно и историческим смыслом. Иными словами, реальное значение осмысленного действия зависит не только от сознательных намерений агента, но и от социальных конвенций и пресуппозиций, которые все вместе участвуют в создании «мира, предлагаемого» данным действием. Отсюда вытекает моральный вывод: мы все ответственны за, скажем, расовую или этническую преступность – не обязательно за то, что она фактически имеет место, но за ее социальную, то есть именно «расовую» или «этническую» квалификацию, поскольку все мы, будучи членами общества, несем свою долю ответственности за то, как в нем принято мыслить и интерпретировать факты[43].
Вернемся теперь к исторической науке: как ей изучать такого рода процессы социальной интерпретации? Рикёр в книге «Память, история, забвение» (2000) различает взгляд на события с точки зрения «обычного человека» и «историка», пользуясь оппозицией память/история. История, показывает он, не может совпадать с памятью, они действуют по-разному и имеют различные предметы, даже когда, казалось бы, занимаются одними и теми же «историческими событиями». В исторических исследованиях «память архивирована, документирована. Ее объект перестал быть воспоминанием в собственном смысле, как удерживаемый по отношению к сознанию в настоящем в состоянии непрерывности и присвоения»[44]. Как следствие, «многие события, признаваемые историческими, никогда не были чьими-либо воспоминаниями»[45]. Но хотя память и история – два разных способа мыслить о прошлом, в обоих случаях перед нами не практические, а ментальные операции, которые невозможно непосредственно наблюдать.
Поскольку мы пытаемся отдать себе отчет в исторических процессах, нам приходится принимать во внимание не только собственно последовательность событий, но и их интенции и мотивации – в терминах Аристотеля, не только материальные и действующие, но также и формальные и телеологические причины. Последние имеют место в сознании социальных агентов, а потому являются «невидимыми» – особенно если мы имеем дело с «темными», неизвестными историческими агентами, оставляющими по себе мало документальных следов (а современная историография все более интересуется такими людьми). Их намерения приходится реконструировать, исходя из общих структур мышления, которые мы «вменяем» конкретным агентам. Таким образом, герменевтика исторического действия требует челночного движения между общими структурами сознания и конкретными практическими действиями, между означаемым и означающим.
В терминах самого Рикёра такое возвратно-поступательное движение ума можно описать через диалектику объяснения и понимания (которая, кстати, тоже практически исчезает из его поздних работ вместе с гипотезой о «действии как тексте»). Здесь не место анализировать подробно эту важнейшую проблему современной эпистемологии, но следует выделить один ее аспект, который был особенно важен для Рикёра в 1970-е годы. Пересматривая дильтеевское определение двух категорий, французский философ отмечает, что в современных гуманитарных науках «объяснение» не может более означать приписывание событию изолированных, независимых друг от друга «причин»: при структурном анализе общественной жизни мы имеем дело с системной казуальностью, когда отдельные действия и события определяются целостной структурой системы[46]. В этом смысле объяснить событие – значит описать формальные отношения между «пустыми» элементами системы (например, чтобы объяснить чей-то брак в традиционном обществе, надо вписать его в структуру принятой в данном обществе системы родства); а «понять» то же самое событие означает уже не проникнуть силой вчувствования во внутреннюю жизнь агента, но скорее охарактеризовать его «предлагаемый мир», соотносящийся с ментальными структурами данной культуры[47]. Как следствие, Рикёр по-новому определяет и соотношение между объяснением и пониманием, выдвигая свой знаменитый принцип: «больше объяснять, чтобы лучше понимать», expliquer plus pour comprendre mieux, то есть мы объясняем внутрисистемные отношения для того, чтобы понять концептуальный «предлагаемый мир», имплицируемый и проектируемый конкретным действием. Рикёр высоко ценил Георга Хенрика фон Вригта, показавшего, что для объяснения системы необходимо привести ее в движение некоторым экспериментальным жестом, который уже нельзя «объяснить», а можно только «понять», интерпретировать исходя из намерений экспериментатора[48]. Вместе с тем фон Вригт подчеркивал, что «на системы, изучаемые в общественных науках, как правило, не могут оказывать воздействие внешние агенты. Зато на них могут оказывать воздействие агенты внутренние»[49], – а значит, понимание событий, вытекающих из таких систем, совпадает с пониманием мотивов агента, заложенных в структуре системы.
Рикёр диалектизировал соотношение между объяснением и пониманием: для него это не взаимно исключительные классификационные термины, а сменяющие друг друга моменты в нескончаемом процессе интерпретации[50]. При этом следует подчеркнуть одно обстоятельство, которое вытекает из его «текстуальной» гипотезы, но не сводимо к нарративной логике его поздних трудов: дело в том, что тот же самый процесс происходит не только при методическом научном познании, но и при спонтанном социальном действии – не только историческая мысль, но и сам исторический процесс развивается как непрерывная самоинтерпретация, в ходе которой «понимаемыми» поступками создаются «объяснимые» структуры и наоборот. История есть аутогерменевтика, самопонимание, но вместе с тем и самоописание[51].
Чтобы доказать этот тезис, мы в заключение укажем две специфические области такого обмена, два предельных случая, уже открытых и описанных другими выдающимися теоретиками.
Первый случай можно было бы обозначить как поведение по удаленному образцу. В 1970-х годах Юрий Лотман обосновал возможность научной дисциплины, которую он назвал «поэтикой бытового поведения» и которая в дальнейшем повлияла не некоторые теоретические идеи англосаксонского «нового историзма»[52]. Из исследований Лотмана явствует, что не только повседневные манеры поведения (в чем нас давно убедила интеракционистская психология и социология) можно описывать как исполнение некоторой «роли», заложенной в наших навыках социальной жизни и адаптируемой к той или иной ситуации; существуют также специфические способы социально-исторического поведения – «героическое», «революционное» и т. д., – которые в некоторых социальных группах (таких как русское дворянство XVIII–XIX веков) подражают литературным или театральным образцам и в этом смысле образуют предмет настоящей «поэтики». Их специфика заключается в удаленном характере образцов для подражания: практикующие их люди следуют примеру не своего окружения, как более или менее поступают все, но примеру «трансцендентных» лиц, таких как литературные или драматические персонажи. Эта удаленность образцов делает очевидным смысловой обмен между поступками и структурами: первые непосредственно осуществляются в реальном общественном мире (иногда это в высшей степени серьезные поступки, такие как рассмотренное Лотманом самоубийство Радищева, подражающее трагическим сценам в театре), последние же пребывают в фикциональном мире художественных произведений. Из их онтологической разделенности следует дискретно-диалектический характер взаимодействия между ними. Поведение по удаленному образцу имеет место не только в «бытовых» ситуациях, но и в политических событиях (Французская революция подражает Римской республике, и т. п.), в религиозном подвижничестве («подражание Христу») и т. д. Важно подчеркнуть, что такое поведение трудно истолковать в рамках чисто нарративной логики: конечно, жизнь Христа – это нарратив, и нарративом может быть также жизнь христианского монаха, однако вместе они не образуют единого нарратива; между ними есть онтологический, вернее семиотический разрыв, который заполняется и опосредуется мимесисом семантических структур.
Второй особый случай – это то, что можно условно назвать смыслоразрушительным поведением. Как показал в ряде своих работ Жорж Батай[53], для социальной жизни чрезвычайно важны различные виды истребительно-жертвенной активности. Практикующие такую активность – а мы все делаем это в некоторые особые периоды своей жизни, такие как религиозные обряды, праздники, моменты сексуального или художественного опыта, – более или менее осознанно стремятся упразднить само понятие смысла, выжечь в жертвенном огне всякую возможность рационального истолкования, сделать неосуществимым какое бы то ни было дистанцирование субъекта от объекта. Как утверждает Батай, переживаемый при этом экстатический опыт отсылает к докультурному, «сокровенному» единству между индивидуальным существом и окружающей средой (в пределе – всем мирозданием). Время от времени людям требуется заново переживать свое до-человеческое состояние, совершая те или иные «абсурдные», явно бесполезные, иногда саморазрушительные поступки, которым по определению нельзя приписать никакого смысла; подобными поступками прерывается всякая логическая последовательность, включая последовательность нарративной «истории». Однако социально-исторический процесс идет своим чередом; на миг прерванный бес-смысленными деяниями, он тут же начинает вновь нарративизировать их, наделять вторичными значениями и функциями, сочиняя их задним числом: религиозные жертвоприношения осмысляются как умилостивление сверхъестественных сил, праздники – как средство социальной интеграции, сексуальность – как воспроизводство рода человеческого, а искусство – как нравственное воспитание людей. Все эти функции, несомненно, присутствуют в реальности и даже могут быть генетически первичными (скажем, воспроизводство является, по-видимому, первичной функцией сексуальной активности), но ими не вполне покрывается переживаемый в подобные моменты опыт бес-смысленности. Этот опыт превосходит тот смысл, который сами агенты могли сознательно приписывать своим деяниям, – примерно так же, как текст или «осмысленное действие», по Рикёру, превосходят свою исходную ситуацию и исходную интенцию автора. Правда, в рикёровских терминах подобные действия уже нельзя считать «осмысленными», поскольку, хотя их «авторы» и могут рассказать нам, что они делают («я приношу в жертву животное», «я наслаждаюсь произведением искусства» и т. п.), в конечном счете «смысл» их деяния заключается в самой его бессмысленности: «я делаю это низачем»[54]. В такой ситуации диалектика семантических структур и асемантических поступков принимает форму открытого конфликта, и его разрешением (всегда временным) формируется ход нашей общественной жизни.
Эти два предельных случая (возможно, есть и другие), которые можно было лишь кратко обозначить здесь, резко отличаются друг от друга как сверхосмысленность поступков в случае поведения по удаленному образцу (субъект стремится придавать своим действиям больше смысла, чем «нормальные» люди) и отказ от всякого их осмысления в случае смыслоразрушительного поведения. Однако у них есть важная общая черта: в обоих случаях перед нами непроизводительные, нетранзитивные виды действия; если вновь воспользоваться аристотелевскими категориальными разграничениями, их формальная причина (как действовать, как оформить тот или иной поступок?) всецело преобладает над их финальной причиной (для чего это послужит?). Такая не-финальность, нецелесообразность позволяет ставить их в один ряд с так называемыми «экзистенциальными» моментами, когда человек обнаруживает свою открытость и несущностность, когда вопрос «быть ли таким или иным?» преобладает над вопросом «для чего быть?». Включить такие высоко проблематичные моменты в семантическую структуру социально-исторического процесса – решающе важная задача гуманитарных наук; в самом деле, ведь этим на свой лад занимается и сам социально-исторический процесс, и его спонтанную аутогерменевтику следует продолжить другой, более методически сознательной. То будет по-прежнему герменевтика, дискурс, интерпретирующий социальные смыслы, – но герменевтика обновленная и обогащенная методологическим опытом структуральной семиотики[55].
В том, что касается дисциплинарных разграничений, эпистемологическая задача, завещанная нам Полем Рикёром вместе с предложенной им «моделью текста» для социального действия, требует объединить усилия двух исторических дисциплин, которые не всегда легко ладят между собой: «обычной» истории деяний (historia rerum gestarum) и интеллектуальной истории идей. Поскольку поступки и семантические структуры непрерывно обмениваются друг с другом в ходе истории, то требуются новые методологические подходы для характеристики их диалектического и часто конфликтного взаимодействия. Как уже сказано выше, философия Рикёра, подобно любой другой априорной рефлексии, могла лишь обозначить эту проблему и очертить ее наиболее абстрактные аспекты; теперь дело «позитивных» гуманитарных наук – наполнить эту схему конкретно-историческим рабочим содержанием.
2011