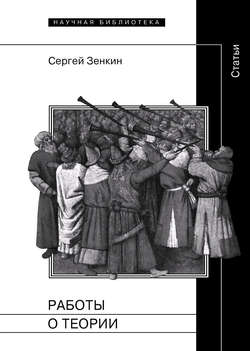Читать книгу Работы о теории. Статьи - С. Н. Зенкин - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПОСТУПКИ И ИДЕИ
МИКРОИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
ОглавлениеСходство между микроисторией и филологией кажется довольно очевидным. По крайней мере, в той своей версии, что ориентирована на культурную, а не на социальную контекстуализацию[69], метод микроистории выражает собой «лингвистический поворот» в исторической науке, которая ныне в большей степени принимает в расчет язык документов прошлого и подвергает самокритике риторику своего собственного дискурса; микроистория – одна из форм реакции на эту самокритику, попытка очиститься от риторических иллюзий исторического дискурса. И тот и другой жест обращают историю к проблематике языка, которой обычно ведает филология (а также и художественная литература). Далее, микроистория попыталась методологически обновить историю ее же собственными средствами, избегая философской спекуляции и не прибегая к систематическому использованию методов других гуманитарных или социальных наук[70], что также походит на склонность филологии к дисциплинарному самосохранению и самоизоляции. Наконец, показательно, что некоторые из видных представителей микроистории в ходе своей научной эволюции естественно сблизились с прямыми задачами филологии – стали изучать, например, эволюцию эстетических идей или даже анализировать кое-какие тексты классической литературы; речь идет прежде всего о Карло Гинзбурге, чье творчество будет служить основным материалом данной статьи[71].
Обращаясь к истории «забытых людей», маргиналов, побежденных, микроистория совершает типичный в литературоведении и критике жест – пересмотр канона. Однако она совершает его радикальнее, стремясь не к установлению нового канона и даже не к расширению старого, но к отказу от самого понятия канона. С другой стороны, изучая частные объекты – пространства, события и судьбы, – она не ставит себе задачи создать интегральную карту прошлого в масштабе 1:1, не строит утопий исчерпывающего описания той или иной культуры, что было мечтой филологии со времен Ф.-А. Вольфа. Как и филология, микроистория культуры работает по принципу синекдохи, разрабатывая отдельный участок исторической реальности и делая на его основании выводы о культуре в целом – так Гинзбург на примере мельника Меноккио делает выводы об общих процессах взаимодействия в Италии XVI века «культуры господствующей и культуры угнетенных», большинство проявлений которого остались не документированными в исторических источниках; но этот частный участок не обладает никакими имманентными преимуществами, и в принципе любой другой материал мог бы осветить культуру прошлого так же выразительно, лишь бы о нем нашлось достаточно сведений. Иными словами, микроистория при выборе предмета описания успешно осуществляет то, к чему упорно, но, в общем, безнадежно стремится филология, – деидеологизацию, отделение описания от оценки, отказ от предвзято-канонической «истории шедевров»[72].
И все же, несмотря на очевидную конвергенцию по материалу и методу, микроистория и филология существенно различаются; между «историей» и «литературой» сохраняется четкая граница.
Карло Гинзбург в своей статье «Приметы» признает «нетипичный» статус филологии по сравнению с историей. Обе науки имеют дело с познанием единичного (событий, текстов), что заставляет их прибегать к методам «уликового», предположительного знания. Работу историка Гинзбург соотносит с работой врача-диагноста:
При всем том, что историк не может не ссылаться, эксплицитно или имплицитно, на ряды сопоставимых явлений, его познавательная стратегия, равно как и его коды выражения, остается внутренне индивидуализирующей (даже если в роли индивидуума будет выступать социальная группа или целый социум). В этом смысле историка можно сравнить с медиком, который обращается к нозографическим таблицам, чтобы проанализировать специфическое заболевание отдельного пациента. И точно так же, как медицинское знание, историческое познание является косвенным, уликовым, конъектурным[73].
Что же касается филологии, то, хотя она тоже находится «в области уликовых дисциплин»[74], ее предмет имеет более абстрактную природу, чем медицинский или исторический казус или даже произведение искусства вроде картины или статуи. Текст, особенно текст печатный, представляет собой нематериальную сущность, которая «ни в коей мере не отождествляется со своей опорой»[75]; в терминах Нельсона Гудмена, он аллографичен[76], в отличие от автографических объектов изобразительного искусства, привязанных к своему материальному носителю. Эта изначальная абстрактность объекта, продолжает Гинзбург, позволила филологии, «в значительной степени сохраняя дивинационный характер», обнаружить в себе «способность к развитию в направлении строгой научности»[77].
Можно предположить, что именно аллографичность предмета филологии (как и, например, музыковедения) делает для этой науки неактуальной проблему «варьирования масштаба», поставленную микроисторией. В филологии ХХ века, богатой новыми направлениями и методами, так и не возникло никакого аналога микроистории, никакой «микрофилологии». Действительно, как ни приближай исследовательский объектив к литературному тексту, он все равно останется интеллектуальным конструктом, а не материальным объектом; если перейти эту границу, то филология как таковая уступит место другой дисциплине – палеографии[78].
Любопытно, однако, что, определяя специфику филологии, К. Гинзбург отождествляет эту науку с «критикой текста»[79]. Между тем хорошо известно, что современная филология – именно та, которая за последние два столетия развивалась «в направлении строгой научности», – далеко не сводится к установлению подлинности и правильности текста, то есть к проверке причинно-следственной цепочки, приведшей от изначального «автографа» к нынешней, возможно, искаженной копии. Она интегрировала в себя герменевтику текста, выяснение его смысла (исторического и трансисторического). Именно по этому параметру, а не по аллографичности объекта проходят наиболее глубокие сходства и различия между нею и историей. Их суть раскрывается оппозицией В. Дильтея, противопоставляющей «объясняющую» и «понимающую» науку, познание причин и познание смыслов.
Как известно, эту оппозицию уже давно критиковали, пытались смягчить или вовсе снять такие ученые, как М. Вебер, Х. фон Вригт или П. Рикёр. Здесь не место заново обсуждать эту проблему в полном объеме, достаточно сказать, что дильтеевская оппозиция, отвергнутая в современных социальных науках, сохраняет значимость в науках гуманитарных, образцом которых является филология. Поль Рикёр в своей последней большой книге «Память, история, забвение» (2000) заинтересованно размышляет об «уликовой парадигме» К. Гинзбурга и отмечает, что к ней нельзя сводить все историческое знание:
Подводя историческое познание полностью под парадигму улик, К. Гинзбург несколько обесценивает значение понятия indice: оно выигрывает при противопоставлении его понятию письменного свидетельства[80].
Фактически здесь имеется в виду именно оппозиция объяснения/понимания. История работает, во всяком случае преимущественно, не с немыми памятниками прошлого, из которых вычленяются «признаки» (indices) этого прошлого, а со свидетельствами, осмысленными высказываниями людей, и хотя в этих высказываниях, конечно, могут содержаться неосознанные моменты, которые послужат «уликами» для исторической реконструкции, но в них всегда есть и собственный, «авторский» смысл, который история не вправе игнорировать. Именно в той мере, в какой она связана обязанностью учитывать не только каузальную обусловленность, но и интенциональный смысл документов прошлого, история родственна филологии.
Расхождение их связано с чтением «примет». По мысли К. Гинзбурга, в этом историческая наука сближается с первобытным «охотничьим» знанием; развивая его гипотезу, можно прибавить, что филология генетически исходит из другой модели знания – из знания жреческого, нацеленного на интерпретацию не вновь возникающих следов, а передаваемых по наследству священных текстов, за которыми скрываются не имманентные причины (животное, оставившее след), а трансцендентный смысл (воля божества, внушившего людям священную формулу). Сложность в том, что различие двух дисциплин и двух моделей знания – неполное: как у филологии с историей, так и у жреческого и охотничьего знания есть общая область, где они смыкаются в своих функциях, – для первой пары это интерпретация свидетельств, а для второй дивинация, гадание по приметам на основе традиции. Характерно, что в «Приметах» Гинзбурга упоминается только эта сторона жреческой практики интерпретации, наиболее близкая к занятиям современного историка, хотя она, возможно, оказалась бы менее существенной для древних историков, которые не рассматривали себя в функции «пророков, предсказывающих назад».
Оппозиция двух архаических видов знания имеет прямое отношение к деидеологизации истории, решением которой занялась микроистория. В отличие как от ангажированно-идеологической, так и от локально-краеведческой истории, она соблюдает четкую дистанцию между исследователем и материалом. В ней не допускается какого-либо «вчувствования» в предметы описания и объяснения[81]. Микроисторик в принципе пишет «чужую» историю; это роднит его не столько с филологом, сколько с антропологом. Симптоматично критическое отношение видных микроисториков (например, Дж. Леви) именно к тем течениям в современной антропологии (например, к работам К. Гирца), которые вызывают наибольший отклик у филологов своей установкой на понимание смысла чужой культуры; такая герменевтическая понятливость беспокоит микроисторию, которая видит в ней опасность релятивизма и отказа от поисков объективной истины[82]. Действительно, микроистория, как и история вообще, доискивается до причин событий, она даже выражает это устремление отчетливее некоторых других исторических течений (скажем, истории ментальностей), потому что возвращается к нарративному, то есть каузальному или квазикаузальному способу изложения; но в отличие от макроистории она толкует эти причины не в дедуктивном, а в индуктивном плане, то есть в таком, где «причина» более всего противоположна «смыслу»:
Итак, за оппозициями разных масштабов проступает проблема разных аргументативных риторик, которые свойственны двум подходам, глубоко несводимым друг к другу. Макросоциологический подход дедуктивен, он специфицирует свои доказательства исходя из глобальной модели. С такой точки зрения каузальное построение создается главным образом благодаря категориям, выражаемым моделью. Вводимые в нее эмпирические данные имеют прежде всего иллюстративную функцию, достигаемую рядом риторических и/или стилистических операторов типизации. Микросоциологический подход индуктивен, он индивидуализирует механизмы и обобщает их через источники. Каузальная конструкция здесь не дана заранее, но воссоздается по источникам, которыми пропитан объект. Риторика здесь – генеративного типа. Эмпирические данные образуют сырой материал, который должен позволять индивидуализацию социальных механизмов и процессов, внеположных объекту и формирующим его историографическим категориям[83].
Как поясняет автор процитированного текста Маурицио Грибауди, макроисторический подход предрасположен к эссенциализму, к оперированию общими категориями (скажем, классовой типизацией: «все буржуа были таковы» или «…поступали так»); микроистория, напротив, эмпирична, она исследует непредсказуемо-индивидуальные, «нормально исключительные»[84] поступки исторических агентов, несводимые к абстрактным категориям и вытекающие из их свободной самодеятельности. У такой самодеятельности, пожалуй, есть свой смысл – но это имманентный «практический смысл» (П. Бурдье), образуемый целесообразностью действий и реакций на внешние факторы. Такой смысл существенно отличен от трансцендентного историческому агенту смысла – от социокультурных типов-сущностей, а тем более от историософских законов, выражаемых идеологическими нарративными схемами.
Однако имманентные мотивы поступков отличаются большей однозначностью, чем их трансцендентные интерпретации, – просто потому, что первые устанавливаются одним историческим агентом в один определенный момент и в одной определенной ситуации, а вторые – многими историками, работающими в разное время и в рамках разных теоретических концепций. Ограничивая себя поиском имманентных мотивов-причин, микроистория оказывается связана лишь со скомпрометированной позитивистски-фактологической версией филологии и остается глуха, если не враждебна, к таким передовым ее течениям, как (пост)структурализм и герменевтика, которые работают не с причинами, а со смыслом (по-разному трактуемым) литературы и культуры в целом. Яростная критика постмодернизма, проходящая сквозь ряд работ К. Гинзбурга, имеет, вероятно, именно этот источник – желание остаться в рамках объяснительной, а не понимающей, каузальной, а не герменевтической парадигмы, удержаться от опасного, чреватого многозначностью увлечения смыслом, грозящего увлечь доказательную историческую реконструкцию в произвольность исторического романа. Устами К. Гинзбурга микроистория заявила о методологическом родстве своей «уликовой парадигмы» с детективным сыском[85] – моделью познания, которая хоть и практикуется более или менее стыдливо в филологии, но в принципе отвергается ею как измена высоким задачам культуры, когда постижение внутреннего смысла литературного произведения подменяют расследованием его более или менее внешних «причин», когда вместо раскрытия многозначности и неисчерпаемости текста публике предъявляют какой-либо простой и однозначный «ключ» к нему (биографический, политический и т. п.).
Примером различия филологического и микроисторического подходов может служить попытка К. Гинзбурга использовать в своем анализе столь важное понятие современной филологии, как понятие диалогического слова. В ряде работ, основанных на материалах судебных (инквизиционных) процессов, он мастерски прослеживает риторические стратегии каждой из сторон, интерпретирует синтагматический смысл каждой реплики, а в статье «Колдовство и народная набожность» делает важный теоретический вывод о структуре такого рода диалогов: по его мысли, влияние судьи на ответы подсудимого (с помощью пыток и техники допроса), конечно, имеет место, «однако встречаются и случаи вроде рассматриваемого, когда все это воздействие не может заставить ведьму полностью отречься от своей воли и в конечном счете признательные показания подсудимой оказываются своеобразным компромиссом между самой подсудимой и судьей»[86]. «Компромисс» – важнейший термин, который задает в диалогических отношениях между историческими агентами логику торга, то есть такого диалога, где оба участника сохраняют свое противостояние и борются за его сохранение. Есть, однако, и другой вид диалога, который основан на тесном взаимопроникновении дискурсов, отзывающихся друг на друга каждым словом в контексте либо любовного сближения, либо полемического противоборства. Этот второй тип диалога, или «интертекстуальность», интенсивно изучается в последние десятилетия филологами, обычно с опорой на металингвистику Бахтина. Два типа диалога несовместимы, и их различие нужно четко сознавать[87]. Между тем К. Гинзбург в другой своей статье («Голос другого. Восстание туземцев на Марианских островах») фактически пытается их примирить и привлекает себе в союзники именно Бахтина:
В книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) великий русский критик Михаил Бахтин проводит различие между текстами монологическими (или монофоническими), где доминирует более или менее скрытый голос автора, и текстами диалогическими (или полифоническими), где разыгрывается конфликт между противоположными мировоззрениями, а автор не принимает в нем ничью сторону. В числе примеров этой второй категории Бахтин называет диалоги Платона и романы Достоевского. Никому не пришло бы в голову поставить в один ряд с ними агиографическое по своим интенциям повествование вроде «Истории Марианских островов» Легобьена [иезуита XVIII века]. Однако сама идея представить точку зрения туземцев через речь Хурао [вожака мятежников] может рассматриваться как попытка ввести в книгу намеренный диссонанс, который включает в монологическое по основной своей сути повествование диалогическое измерение[88].
Гинзбург соблюдает все меры предосторожности: предостерегает против ценностного уравнивания книг Платона или Достоевского с сочинением французского иезуита, подчеркивает, что в этом сочинении делается всего лишь «попытка» ввести «диалогическое измерение» в «монологическое по основной своей сути повествование». Остается, однако, невыясненным главное – и важнейшее – различие между текстом Легобьена и диалогическим словом, как его мыслил Бахтин: в «Истории Марианских островов» голос Другого (в данном случае непокорного туземца) лишь включен в синтагматическую развертку текста, ему там выделено определенное место – фрагмент прямой речи, соответствующий речам «дунайского крестьянина» из бродячего притчевого сюжета, с которым Гинзбург блестяще связывает генезис данного риторического пассажа в книге французского иезуита. Напротив того, в диалогическом слове по Бахтину – или в интертекстуальном слове по Ю. Кристевой, предложившей расширенную трактовку бахтинского диалогического принципа, – чужое слово накладывается на слово основного рассказчика, коэкстенсивно ему, звучит непосредственно в нем самом, благодаря жестам микроцитации, речевой оглядки, агрессии, иронии (в частности, сократовской) и т. д. Этот процесс взаимопроникновения двух дискурсов делает диалогическое слово неоднозначным и открытым для бесконечной реинтерпретации; Гинзбург же заменяет его гораздо более однозначным процессом торга-словопрения, где каждая сторона – и иезуиты-европейцы, и туземцы-мятежники – последовательно и отдельно заявляет свою правду. Единственный момент, где гладкая протяженность этой двуролевой риторики дает «трещину», связан, по мысли историка, не со взаимоналожением разных дискурсов, а с нечаянным вторжением в дискурс конкретной референциальности, материальной реальности – в данном случае это пересказанные автором-иезуитом слова дикаря о крысах, которых европейские корабли завезли на их острова:
Анализировать стратегии автора за защитной стеной единственного текста было бы в каком-то смысле успокоительным занятием. В такой перспективе говорить о реальности, располагающейся по ту сторону текста, было бы чисто позитивистским ухищрением. Однако в текстах бывают трещины. Из той трещины, которую я нашел, возникает нечто неожиданное – полчища крыс, которые разбрелись по свету, этакая оборотная сторона нашей «цивилизаторской миссии»[89].
Нет сомнения в доброй воле исследователя, стремящегося с помощью понятия диалога объяснить становление первоначальных понятий о культурной относительности. И все же симптоматична осуществленная им редукция: принимая без рефлексии непроходимую преграду между словом историка и словом исторических лиц, микроисторик тем более не слышит диалогических интенций в речи последних. Если при анализе речевых взаимодействий, протекающих на «низком» уровне вроде инквизиционного процесса над ведьмой или еретиком, схема «торгового» дискурса оказывается вполне адекватным объяснительным средством, то при выходе в «высокую» письменную культуру, будь то даже не самое выдающееся историческое сочинение XVIII века, она сразу же оказывается недостаточной, и исследователь пытается эклектически усложнить ее, объединив с бахтинской теорией диалогического слова.
Ориентация микроистории на «индуктивную» причинность, действующую не на уровне макросоциальных процессов, а в частном опыте и сознательном горизонте исторического агента, предполагает повышенную ответственность последнего за свои слова и поступки: это его слова и поступки, они не навязаны ему никакими абстрактными сущностями. Но отсюда следует и еще один вывод: поступки индивида оказываются более весомыми, чем его слова, именно потому, что в поступках яснее, чем в словах, проявляется каузальный, а не смысловой детерминизм. Соотносясь с таким типичным филологическим жанром, как биография писателя, микроистория тяготеет скорее к событийной, чем к интеллектуальной биографии. И хотя в некоторых классических работах по микроистории, таких как «Сыр и черви» К. Гинзбурга, предметом исследования является говорящий и пишущий индивид – тем более интересный и «нормально исключительный» тем, что по социальному положению ему вообще-то полагалось бы молчать, – хотя биография этого философа-самоучки сопровождается внушительным историко-идейным комментарием, который сделал бы честь любому филологическому исследованию, вместе с тем некоторые другие работы того же К. Гинзбурга по истории идей и профессиональных идеологов (философов, писателей и т. д.) демонстрируют тенденцию сводить идеи ко внекультурным причинам. Речь идет о тех статьях, где осуществляется, порой с немалым блеском и аналитическим мастерством, обличение того или иного исторического – или даже историографического – дискурса, компрометируемого «истинными» мотивами его автора. И если, скажем, в случае колониалиста-прожектера XVIII века Жан-Пьера Пюрри, написавшего специальный трактат с теоретическим оправданием рабства в колониях[90], это обличение уместно, поскольку идеологическая направленность данного дискурса очевидна и нескрываема, то сложнее обстоит дело с теоретиками «постмодернистского» релятивизма, которых Гинзбург темпераментно обличает в предисловии к своей книге «Силовые отношения» (или, как она называлась в первом американском издании, «История, риторика и доказательство»).
Заменяя, как это ему вообще часто свойственно, теорию предмета его историей[91], Гинзбург разбирает «случаи» двух теоретиков исторического релятивизма – Фридриха Ницше и Поля де Мана. У обоих проповедь релятивизма симптоматическим образом (в смысле, какой слово «симптом» имеет в психоанализе, то есть в рамках уликовой парадигмы) связана с биографической двойственностью авторской личности: для Ницше это тяжело переживавшийся им «эдиповский» разрыв с христианством, для Поля де Мана – коллаборационизм во время войны, память о котором он пытался вытравить[92]. Гинзбург избегает прямых каузальных утверждений типа «был не в ладах с собой – поэтому и в истории проповедовал релятивизм», однако такая каузальная логика прозрачно выступает из общей тенденции его полемического предисловия: биографические сведения о теоретиках с очевидностью приводятся с целью дискредитации их теорий. При этом талант и историческое чутье даже здесь, в ситуации пристрастной полемики, не изменяют Гинзбургу: он нащупывает действительно важную проблему неоднозначности человеческой личности, ее права противоречить себе (в свое время Бодлер называл это право одним из до сих пор не признанных прав человека) и возможного несоответствия между «жизнью» и «творчеством». Но это уже проблема смысла, а не причинности, проблема филологии, а не микроистории, а объяснение Гинзбурга кажется предвзятым и трудно доказуемым: в конце концов, исторический релятивизм утверждали и утверждают многие теоретики – неужели у всех них следует доискиваться до какой-то более или менее постыдной раздвоенности?[93]
Эта тенденция биографической редукции или «биографической ереси» (biographical fallacy), уже более полувека подвергаемая критике в теории литературы, парадоксальным образом возвращает в анализ микроисторика идеологическую оценочность, которую его метод успешно исключал на стадии отбора материала. От того, что эта оценочность открыто заявлена историком, она не перестает быть искажающим фактором, фактором упрощения.
Чтобы понять глубинную причину такого упрощения, обратимся еще к одной работе Гинзбурга, которая, строго говоря, выходит за рамки микроистории, поскольку охватывает очень длительный временной период, от Платона и Аристотеля до наших дней. Это большая статья «Миф», включенная в сборник «Деревянные глазки» (во французском переводе он озаглавлен «На расстоянии»). Понятие мифа рассматривается здесь в эпистемологической перспективе: миф есть ложное, вымышленное знание, и задача состоит в его деконструкции (пусть и не в смысле Деррида или Поля де Мана), в анализе тех неявных предположений, от которых зависит возможность его создания и циркуляции в обществе. В ходе этого блестящего анализа – историко-идейного, то есть практически неотличимого от филологического, – автор исключает из рассмотрения, и, пожалуй, даже сознательно, как раз ту линию в осмыслении мифа, благодаря которой это понятие сделалось одним из самых значимых, самых увлекательных, а также и самых опасных понятий культуры ХIХ – ХХ веков, а именно линию реабилитации мифа начиная с конца XVIII века и в последующую эпоху. Для сравнения можно сопоставить статью Гинзбурга с работой Жана Старобинского – историка идей, воспитанного на филологической культуре, – «“Мифы” и “мифология” в XVII–XVIII веках»[94]. Старобинский, признавая роль «баснословия» (fable) в моралистическом дискурсе классической эпохи, где знание мифов служило условным знаком образованности, а мифологические сюжеты могли использоваться в целях просветительского разоблачения пороков (то есть, парадоксальным образом, в целях противоположных лжи, для борьбы с нею), показывает недовольство мыслителей XVIII века таким упрощенным пониманием мифа и закономерность ценностной реабилитации «мифологии» в преромантическую и романтическую эпоху. Что же касается Гинзбурга, то он, конечно, знает об этом процессе, но упоминает о нем лишь совсем кратко в одном из примечаний к своей статье, как нечто затемняющее истинное представление о мифах:
…романтическая идея, согласно которой миф как таковой представляет собой путь к некоей более глубокой истине, остается чуждой тому обсуждению проблемы, что было начато Платоном. Именно ретроспективная, часто бессознательная проекция романтических взглядов на миф мешала до сих пор понять связь между «Федром» и «Софистом», которая, напротив того, образует отправную точку вышеизложенного[95].
Возможно, Гинзбург и прав в своем толковании платоновских диалогов – но ведь его статья отнюдь не ограничивается ими, она доводит анализ вплоть до нашей современности. В такой перспективе его квазиумолчание о «романтических взглядах на миф» ведет к искусственной гомогенизации культуры[96]. В самом деле, культура состоит не столько из отчетливых идей, сколько из более сложных и разнородных структур, включающих в себя, между прочим, так называемые «мифы», и их позитивное исследование составляет задачу филологической истории культуры. Однако микроистория К. Гинзбурга уклоняется от этой задачи, стремясь не отрывать идеи от их материальной подкладки и в очередной раз отказывая культуре в праве на многозначность, неопределенность смысла, которою, как известно, отличаются мифы.
Если вновь обратиться к практике микроистории, то показательно, каким образом сам Карло Гинзбург обращается с оригинальным космогоническим мифом, найденным им в материалах судебного следствия над мельником XVI века Меноккио. Последний в своих показаниях излагал его так:
«Я говорил, что мыслю и думаю так: сначала все было хаосом, и земля, и воздух, и вода, и огонь – все вперемешку. И все это сбилось в один комок, как сыр в молоке, и в нем возникли черви и эти черви были ангелы…»[97]
Исследователь, конечно же, не прошел мимо этого живописного рассказа: он подробно процитировал его, изложил и проанализировал его восприятие слушателями-инквизиторами, указал на параллели в мифологии ряда других, в том числе весьма удаленных от Италии народов, наконец вынес два его опорных слова – «сыр» и «черви» – в заголовок своей собственной монографии. Тем более значимо, что он не сделал никакой попытки внутреннего семантического анализа самого этого мифа, в котором можно было бы обнаружить ряд важных смысловых элементов и оппозиций (например, оппозицию дискретных и континуальных субстанций, теорию самозарождения жизни из тверди и т. д.). Вместо анализа смысла мифа он дает каузальное объяснение натурфилософии мельника Меноккио, якобы обусловленной всего-навсего его житейским опытом:
На самом деле Меноккио нашел свою космогонию не в книгах <…>. Меноккио видел не раз и не два, как в сгнившем сыре появляются черви, и опирался на этот опыт, чтобы объяснить, как живые существа – первые и лучшие, ангелы – возникают из хаоса…[98]
Стараясь избежать культурно-исторического редукционизма, сводящего идеи простых людей к прочитанным ими книгам, историк зато впадает в другой редукционизм, вульгарно-материалистический, когда творения ума сводятся к чувственному опыту индивида. Это, конечно, позволяет снять вопрос о познавательной силе мифов – они жестко привязываются к конкретным, превратно истолкованным чувственным впечатлениям (поистине просветительская критика мифа!); но так легко можно отделаться лишь от простого мельника, в «воспаленной памяти» которого «перемешались, переставились, переплавились слова и фразы»[99], но не от какого-либо крупного, авторитетного мыслителя, который мог бы высказать в своем сочинении аналогичные, несуразные на современный научный взгляд, представления о мироздании. Миф Меноккио о сыре и червях – это та точка «текста Меноккио», которая не сводима к объектно-историческому исследованию, которая требует герменевтического (или, что в данном случае одно и то же, филологического) истолкования, поскольку в ней имеет место «комок», сгусток не просто первобытной материи, но и смысла, актуального не только для тогдашнего, но и для нашего нынешнего мышления. Этот неассимилированный смысловой остаток микроистория, поскольку она сознает собственные методологические пределы, должна передать в ведение филологии.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу