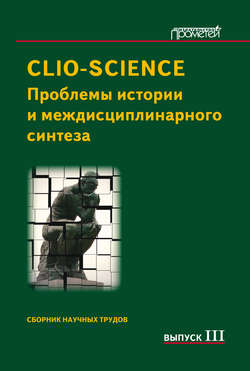Читать книгу CLIO-SCIENCE. Проблемы истории и междисциплинарного синтеза: Сборник научных трудов. Выпуск III - Сборник статей - Страница 8
Социально-гуманитарное знание и исторический синтез
Роль периодической печати в формировании общественного мнения России о внешней политике Германии во второй половине XIX века: имагологический подход
ОглавлениеНаумова О. В.
магистрант исторического факультета МПГУ
Отношения между Россией и Германией играли определяющую роль в историческом развитии обеих стран в XX столетии. Две мировые войны, в ходе которых они сражались друг против друга, наложили свой отпечаток на последующий ход истории. После неопределенности середины 1990‑х гг. был взят курс на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сотрудничество в экономической и политической сферах. Представляется, однако, что сохранение этой позитивной тенденции, выгодной и России, и Германии, требует в высшей степени внимательной и кропотливой работы по ее защите от возможных враждебных посягательств, в том числе и в сфере идей.
Как известно, предрассудки относительно «другого» (на уровне народов) обращаются в стереотипы коллективного сознания и являются вечными, «сохраняясь в виде устойчивых стереотипов, то замирающих, то оживляющихся и возрождающихся в определенных ситуациях»[82]. Учитывая данное обстоятельство, изучение коллективных представлений народов друг о друге, механизмов их возникновения, распространения и изменения имеет сегодня особое значение.
Когда мы употребляем словосочетание «образ народа», «образ страны», мы вступаем в область научной дисциплины, которая изучает рецепцию (заимствование и приспособление определенным обществом социальных и культурных форм, возникших в другом обществе) и репрезентацию (представление одного в другом и посредством другого) своего мира или мира других. Имагология – неологизм от латинского imago, образа, т. е. наука об образах. Слово «имагология» появилось на страницах академических, в первую очередь социологических, изданий еще в 20‑х гг. XX в.[83] Однако широкую известность эта область социогуманитаристики получила лишь с середины 50‑х гг. XX в. благодаря филологам, увлекшимся исследованием национальных образов в художественной литературе. Но только в конце XX в. стало ясно, что имагология обладает огромным гносеологическим потенциалом.
Происходящий сегодня в мире процесс глобализации ведет к размыванию и нивелированию национальной специфики во многих сферах общественного бытия. Это побуждает ученых активно заниматься в последнее время изучением того, что же собственно представляет собой феномен национальной идентичности. Историки активно разрабатывают проблематику формирования и эволюции национальных идентичностей различных народов в прошлом. Представления о том, что позволяет отдельным индивидам считать себя некой общностью, т. е. «своими», всегда неразрывно связаны с представлениями о том, что конкретно членов данной общности отличает от остальных, т. е. «чужих». Изучение данной проблематики связано с исследованием существующих у разных народов образов «других». В сферу имагологии входит теоретическое обоснование и раскрытие конкретных механизмов возникновения образа «чужого» («другого») у различных социальных, культурных и этнических общностей[84]. Помимо научной актуальности, изучение возникших в прошлом представлений разных народов друг о друге имеет и вполне практическое значение, поскольку стереотипы взаимного восприятия меняются довольно медленно. Сформировавшиеся достаточно давно образы, несмотря на изменившиеся условия, продолжают оказывать влияние на кросс-культурные отношения разных народов.
Картину мира другой страны или народа создают особые формообразующие механизмы – стереотипы, имиджи, образы. Стереотип – одно из самых древнейших средств формирования имагологической картины мира. Стереотипы восходят к родоплеменным отношениям, к понятиям «свой – чужой», к ранним периодам формирования этнического сознания. С Нового времени от понятия «стереотип» отделяется понятие «имидж». В рамках исследуемой проблемы имидж можно рассматривать как политический стереотип, выработанный государственной идеологией и ориентированный на геополитическую борьбу. Имидж «чужого» в глазах народа – это оружие власти, используемое для формирования сознания масс. Образ же представляет собой, скорее, стереотип, созданный искусством, в частности, художественной литературой. В нем отражается попытка воссоздания реальности во всей полноте и сложности. Зачастую образ претендует на опровержение стереотипа, сложившегося в национальном сознании в период зарождения международных отношений.
Факторы, влияющие на оформление имагологический картины мира, многообразны: природные условия (даже климат), географическое положение (близость-дальность, пограничность), цивилизационная и конфессиональная принадлежность, интенсивность и история межкультурных коммуникаций, особенности обычаев, быта, культуры воспринимаемой страны (народа). Агентами, формирующими восприятие «другого», выступают государство, церковь, органы политической пропаганды, средства массовой информации и т. п. Их усилия направлены на обработку общественного мнения как пространства бытования национальных образов/имиджей/стереотипов.
Сам термин «общественное мнение» используется в разных науках об обществе (философией, социологией, политологией) и не имеет общепринятого определения. Наиболее распространенным можно считать понимание общественного мнения как «способа существования массового сознания, в котором проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их интересы и потребности»[85]. Общественное мнение играет огромную роль в регуляции поведения индивидов и социальных групп. В поле зрения общественного мнения попадают, как правило, лишь те проблемы, события, факты, которые вызывают общественный интерес, отличаются актуальностью и в принципе допускают многозначное толкование, возможность дискуссии.
Современное понимание общественного мнения нельзя механистически переносить на российскую реальность XIX в. Круг лиц, способных оказать влияние на принимаемые самодержцем и его министрами решения и олицетворявших собою общественное мнение, был необычайно узок. К ним можно отнести придворное окружение монарха, верхушку бюрократии, высшее командование армии и флота, единичных представителей делового мира, ведущих издателей, редакторов и писателей. Их суммарная численность может быть выражена скорее в сотнях, чем в тысячах. Только по отношению к ним в рассматриваемую эпоху и можно использовать термин «общественное мнение».
Однако в модернизирующейся России начинали сказываться те же тенденции, что и в западноевропейских странах: во второй половине XIX в. роль создателей и выразителей общественного мнения активно примеряют на себя периодические издания, формирующие умонастроения представителей образованного класса, все более интересующегося политикой, в том числе и внешней. Иное дело крестьянство и городское простонародье. В литературе отмечалось, что в этой среде царили весьма неопределенные, порой фантастические представления о других народах[86]. Народные массы просто не знали о существовании некоторых европейских стран. Германии повезло больше, но и о том, велика ли эта страна, в каких отношениях германские государства находятся с Россией, народные представления были весьма смутны[87].
Таким образом, можно, с известными допущениями, считать именно периодическую печать основным источником для исследования образов «другого» в общественном мнении как России, так и западноевропейских стран[88].
Пресса активно использовалась политической элитой «для обработки общественного мнения в своих интересах»[89]. Периодические печатные издания не только отражали идеи и воззрения, распространенные в тех или иных кругах общества, но и формировали или корректировали позицию своих читателей. Одновременно они играли и активную роль в сфере выработки политических решений. В частности, такой признанный творец «общественного мнения», как М. Н. Катков, находившийся вне правительства, «почти четверть века оказывал серьезное влияние на политику самодержавия, не только выражая, но и усиливая, а зачастую и создавая мнения и настроения в «верхах», формируя там определенную точку зрения», тем самым идейно обосновывая и подготавливая те или иные правительственные меры[90]. Сами органы печати вполне отдавали себе отчет о своих возможностях. Так, журнал «Вестник Европы», характеризуя сообщения органов германской печати по поводу переговоров Бисмарка в Гаштейне, указывал, что они «выражают собой общественное мнение, а это последнее служит выражением общественных и национальных интересов, которые в наши времена в решительные минуты действуют повелительно и на дипломатию»[91].
Сознавала эту роль и российская политическая верхушка. Известны многочисленные случаи давления представителей власти на редакторов периодических изданий с целью оказать определенное (и выгодное правительству) влияние на общественное мнение. Е. М. Феоктистов описал примечательный эпизод, который позволяет понять отношение к общественному мнению ряда высших чиновников государства. Эта история была сообщена ему редактором газеты «Голос» А. А. Краевским. В 1871 г. было решено оказать давление на редакторов периодических изданий с целью добиться более благожелательного отношения в российской печати к Пруссии. Миссия была возложена на министра внутренних дел А. Е. Тимашева, который при встрече с редакторами утверждал, что именно от них зависит настрой общества, так как самостоятельного общественного мнения в России не существует. Представление о процессе формирования общественного мнения самого Феоктистова, в следующее царствование возглавившего Главное управление по делам печати МВД, было довольно лестным для газет и журналов: «… каждый читает утром, за чашкой кофе, газету и в течение дня пробавляется тою мудростью, которую он в газете прочитал»[92].
Необходимо отметить, что внешняя политика Германии конца XIX в. находилась в центре внимания общественного мнения России и вполне адекватно отражалась им. Ведущие периодические издания вскрывали движущие мотивы политики соседнего государства и давали, в основном, реалистические прогнозы развития ситуации. Стоит отметить и стремление сохранить равноправные, взаимовыгодные, дружественные отношения между державами, которое разделялось представителями всех идейных направлений общественного мнения России. Остается только сожалеть, что ход событий не позволил в полной мере воплотиться этому стремлению в жизнь.
82
Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). – М., 2000. – С. 8.
83
Власть и образ: очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский – СПб., 2010. – С. 5.
84
См.: Оболенская С. В. Указ. соч.
86
Оболенская С. В. Указ соч. – С. 29.
87
Там же. – С. 13.
88
Оболенская С. В. Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. – М., 1977. – С. 8.
89
Балуев Б. П. Политическая реакция 80‑х годов XIX века и русская журналистика. – М., 1971. – С. 11.
90
Твардовская В. А. Идеолог пореформенного самодержавия. (М. Н. Катков и его издания). – М., 1978. – С. 3.
91
Т-ов М. Восточная политика Германии и обрусение // Вестник Европы. – 1872. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 644.
92
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896 // За кулисами политики / Е. М. Феоктистов, В. Д. Новицкий, Ф. Лир, М. Э. Клейнмихель. – М., 2001. – С. 77.