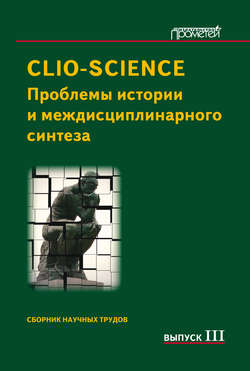Читать книгу CLIO-SCIENCE. Проблемы истории и междисциплинарного синтеза: Сборник научных трудов. Выпуск III - Сборник статей - Страница 9
Социально-гуманитарное знание и исторический синтез
Исторический фильм. К проблеме определения жанра игрового кино
ОглавлениеЗакиров О. А.
кандидат исторических наук
Большой популярностью в игровом (художественном) кино пользуется исторический жанр. Обращением к истории отмечены многие важнейшие для начала национальных кинематографий мира фильмы: в США «Рождение нации» (реж. Д. Гриффит, 1915 г.), в Италии «Кабирия» (реж. Д. Пастроне, 1914 г.) и др. Началом российского национального кинопроизводства принято считать выход в 1908 г. первого русского игрового фильма «Стенька Разин, или Понизовая вольница» (режиссер В. Ф. Ромашков). Очевидно, что «Стенька Разин» – исторический фильм, но на самом деле по своей жанровой сути он является довольно сложным произведением. К. Э. Разлогов отметил: «Название фильма напоминает нам, с одной стороны, о русской истории XVII в. (крестьянское восстание под предводительством Степана Разина), с другой – о многочисленных народных сказаниях о жизни атамана. Среди них наибольшей известностью пользовалась и пользуется песня, начинающаяся знаменитыми словами: «Из-за острова на стрежень». Этот последний источник <…> послужил основой для создания фильма, драматургическая хаотичность которого оказывается весьма поучительной»[93]. Поучительно и то, что первенец отечественного игрового кино сочетает в себе черты и исторического фильма, и экранизации, и приключенческой ленты, и даже музыкальной картины или клипа. Последнее не должно удивлять: 1908 г. – время немого кино, но производитель картины А. О. Дранков заказал известному композитору М. М. Ипполитову-Иванову музыку, а ноты и граммофонную пластинку рассылал вместе с копиями фильма для сопровождения показов[94].
Проблема обособления и определения исторического направления в игровом кино, существенная уже в первые годы развития кинематографа, остается актуальной и сегодня. Историки, культурологи, искусствоведы и другие исследователи, обращающие свое внимание к фильмам этого направления, пытаются выработать определение игрового исторического фильма. Выявление признаков этого явления и его сущностных черт зависит от избранных критериев. В разных странах и разных научных традициях само понятие истории трактуется неодинаково. Следовательно, к историческим фильмам могут быть отнесены экранные произведения, существенно отличающиеся по содержанию и форме. Кроме того, понятие исторического фильма меняется во времени. В данной статье предпринята попытка осветить общее представление об историческом игровом кинофильме, утвердившееся в отечественной науке. Так же целесообразно связать его с конкретикой, осветить специфику бытования этого понятия в отечественной кинокультуре на одном из важнейших этапов ее развития – этапе 1930‑1950‑х гг.
В советском энциклопедическом словаре кино дано следующее определение: «Исторический фильм – произведение киноискусства, сюжет которого основан на изображении реальных событий и, как правило, реальных персонажей исторического прошлого»[95]. Данное определение в целом характеризует очевидную специфику фильмов исторического жанра. Хотя отдельные моменты требуют особого внимания. Автор словарной статьи киновед Л. К. Козлов тонко – на уровне употребления слов – отразил в краткой формулировке две большие проблемы. Первая проблема – соотношение истории-реальности и истории-текста. Дважды употребляя в своем определении слово «реальных», Козлов помещает между ними оборот «как правило», указывающий на закономерность и одновременно ставящий ее под сомнение. Кроме того, говорится о событиях и персонажах «исторического прошлого». И в этом вторая проблема – проблема временного промежутка, который позволяет нам воспринимать события прошлого как исторические, позволяет отделить их от современности.
Данные научные проблемы интересно рассмотреть в связи с примерами кинофильмов. Картина «Георгий Саакадзе» советского грузинского режиссера М. Э. Чиаурели (1‑я серия вышла в 1942 г.; 2‑я – в 1943 г.). Содержание фильма не раскрывало всех перипетий насыщенной событиями жизни военного и государственного деятеля Грузии Георгия Саакадзе (1570–1629 гг.). В картине биография Саакадзе изложена в значительной степени условно. Многие его деяния (даже более позднего периода) привязаны ко времени царствования Луарсаба II, правившего в 1606–1614 гг. Картли – одной из областей Грузии, ставшей основой её государственности. Многие распространенные взгляды, получившие отражение в фильме (незнатное азнаурское происхождение Саакадзе; то, что он привел войска персов в Грузию), ставятся под сомнение и опровергаются. Фильм не дает представления об исторической дистанции между показанными событиями, которая порой измерялась годами. (Впрочем, подобные моменты присущи большинству исторических фильмов).
Многие сцены картины «Георгий Саакадзе» являются историческим текстом, весьма условно относимым к исторической реальности. Но изображение реально существовавших фигур, художественная убедительность, преподнесение под жанровым определением «исторический фильм» заставляют зрителей поверить, что в реальности все происходило так, как показано в фильме. Тем самым история-текст, преподносимая с экрана, воспринимается как историческая реальность. Значительную роль здесь играют исключительные возможности воздействия произведений аудиовизуальной культуры на психику зрителя. Изображение прошлого становится реальным элементом исторического сознания зрителя, формирует его историческую память. Исторический фильм оказывает на зрителя порой даже более сильное воздействие, чем фильмы других жанров. Е. А. Добренко заметил: «Проблема, как представляется, связана с самим жанром исторического фильма: в отличие от мюзикла, драмы или научной фантастики он непосредственно апеллирует к реальности; в нем действуют «реальные исторические личности», в нем совершаются «реальные исторические события», и, наконец, в нем материализуется история»[96].
Второй пример – фильм братьев Васильевых «Чапаев», повествующий о событиях Гражданской войны. Сегодняшним зрителем он воспринимается как исторический – минуло более девяти десятков лет с изображаемых в нем событий. Но когда он вышел в 1934 г. на экраны, многие события и сама эпоха были недавним прошлым для большинства советских зрителей. И тогда к фильму относились не как к произведению об историческом (далеком) прошлом, а почти как кинокартине о современности. Жанр историко-революционного фильма был в СССР заметно обособлен от исторического, играл свою значительную роль.
Сегодняшний зритель среднего возраста вряд ли назовет историческим фильм о реальных политических событиях 1980‑1990‑х гг. Таких картин в последнее время прошло по нашим кино– и телеэкранам довольно много (например, фильм «Ельцин. Три дня в августе», реж. А. А. Мохов, 2011 г.). Может быть, такой фильм действительно основан на реальных фактах, но воспринимать его как исторический сложно. Описываемые в нем события – это уже история, но это история, вершившаяся «на нашей памяти», часть собственной биографии большей части населения. Краткость временной дистанции от революционных событий была в СССР 1930‑1950‑х гг. одной из причин отделения историко-революционных картин от исторических. Хотя по сути одни являлись подвидом других, и вполне осознавалась их тесная взаимосвязь. Но между данными направлениями советского кино были значительные содержательные и функциональные отличия.
Историческими для этого периода логично рассматривать фильмы об исторических сюжетах, происходивших до 1917 г., о дореволюционных событиях разных веков. Собственно с революции советские идеологи начинали новую историю человечества, совершенно новый ее этап. С середины 1930‑х гг. изменялось отношение к дореволюционной истории. Начался поиск не только того, что разделяло Российскую империю и СССР, но и поиск того, что связывало многовековую российскую государственность с первым в мире социалистическим государством. Если перед историко-революционными фильмами всегда стояла задача обосновать необходимость социалистической революции, ее прогрессивное и благотворное значение, то у фильмов о дореволюционном прошлом были более широкие функции. С одной стороны, в них должны были показываться негативные черты прошлого, обосновывающие революционные перемены. С другой стороны, нужно было показывать то прогрессивное, что имело место в прошлом: восстания («Пугачёв», реж. П. П. Петров-Бытов, 1937 г.; «Салават Юлаев», реж. Я. А. Протазанов, 1941 г.); изобретения и открытия, культуру и таланты народа («Первопечатник Иван Фёдоров», реж. Г. А. Левкоев, 1941 г.) и т. д. Международная напряжённость требовала укрепления патриотизма, государственнических идеалов. Все это вело к переменам в исторической идеологии. Появлялись фильмы о царях, полководцах, общественных и культурных деятелях («Петр Первый», реж. В. М. Петров, 1‑я сер. 1937 г., 2‑я – 1939 г.; «Давид-Бек», реж. А. И. Бек-Назаров, 1944 г.; «Давид Гурамишвили», реж. Н. К. Санишвили, И. М. Туманишвили, 1946 г.). Перед этими картинами ставились другие цели, более сложные и неоднозначные, чем задачи уничижения дореволюционного прошлого.
Советский исторический фильм имел разные, порой противоречащие друг другу функции. Различие задач, ставившихся перед фильмами, тематические и сюжетные отличия вызывали появление специфических наименований. Выделяли порой отраслевые разновидности. Так, кинопроект 1941 г. «Мертвая петля» (о начале русской авиации) некоторые современники назвали «историко-авиационным фильмом»[97]. Хотя подобные случаи не так часты, но они были. В то же время в других жанрах советского кино подобное почти не наблюдалось (не делили, например, спортивно-футбольный и спортивно-боксерский фильмы).
Встречаются в источниках многие специфические наименования. Примером могут служить выступления В. И. Пудовкина, датируемые 1945 г. Он говорил о «национально-исторических» фильмах, подразумевая исторические картины, снятые на национальном материале в республиках (кроме РСФСР)[98]. Он говорил о военно-историческом фильме, относя к нему картины о военачальниках («Суворов», реж. В. И. Пудовкин, 1941 г.; «Кутузов», реж. В. М. Петров, 1944 г.) и фильмы о государственных деятелях, правителях и полководцах («Александр Невский», реж. С. М. Эйзенштейн, 1938 г.)[99]. Исторические фильмы о деятелях науки и культуры Пудовкин в одних своих выступлениях обобщал названием историко-биографических (или просто биографических)[100], а в другом выступлении (на обсуждении тематического плана художественных фильмов на 1945 г.) он указывал: «В темплане нет того, чем мы гордимся в области нашей, русской культуры. Как будто бы этому должен был быть посвящен раздел историко-биографический. Кстати, это – неправильное название, оно ничего не определяет. В этом разделе есть один Глинка. Я не вижу науки. Наука отведена в область научно-технического фильма. В разговорах проскальзывали такие имена, как Ломоносов, Менделеев, Толстой, но чувствовалось, что этим сценариям не придали достойного значения, не собрали их сознательно в крупный раздел, который нужно двигать и организовать»[101].
Очевидно, что даже один крупный режиссер и теоретик кино примерно в одно и тоже время путался в определениях разных направлений, поджанров и тематических групп советского исторического кино. Как бы то ни было, именно наименование «исторический фильм» было самым распространенным, общим и часто употребляемым в 1930‑1940‑х гг.
Понятие историко-биографический фильм требует особых уточнений. В основной массе исторические фильмы сталинского времени, так или иначе, основывались на биографиях каких-либо исторических личностей. Большинство названий исторических картин содержат имена собственные. Порой даже более обобщенные и поэтические названия сценариев превращались в конкретные именные названия снятых картин (сценарий 1937 г. «Русь» в итоге воплотился в фильм «Александр Невский» 1938 г.).
Зачастую эту биографичность (выводимую механически из названия) связывают с присущими советской системе вождизмом и культом личности. Безусловно, влияние этих явлений имело место. Вместе с тем, нельзя сводить все причины к этому влиянию. Еще со времен Плутарха биография является одной из ведущих форм любого историописания. Произведение киноискусства требует конкретности, образности, целостности. И именно биография героя (будь то вся жизнь или отдельный законченный по смыслу эпизод) является одной из наиболее распространённых основ для создания игрового фильма. Это характерно для кинематографа разных стран. Мировое кино 1930‑1950‑х гг. повсеместно демонстрировало интерес к конкретной личности, к теме становления и развития человека, судьбе героя. Представляются интересными примеры зарубежных игровых исторических фильмов. Биографическими были киноленты не только в странах с жестким режимом единоличной власти, но и в либерально-демократических государствах. В нацистской Германии были сняты фильмы о Фридрихе II («Старый и молодой король», реж. Г. Штайнхофф, 1935 г.; «Фридерикус», реж. Й. Мейер, 1936 г.; «Великий король», реж. Ф. Харлан, 1942 г.); о Бисмарке («Бисмарк», реж. В. Либенайнер, 1940 г.; «Отставка», реж. В. Либенайнер, 1942 г.). В тоже время в США были сняты «Эдисон» (реж. К. Браун, 1940 г.); «Вудро Вильсон» (реж. Г. Кинг, 1945 г.); вышли фильмы о Линкольне («Авраам Линкольн в Иллиноисе», реж. Д. Кромуэлл, 1940 г.; «Молодой мистер Линкольн», реж. Д. Форд, 1943 г.). Британский режиссер А. Корда поставил целый цикл исторических кинобиографий: «Частная жизнь Генриха VIII», 1933 г.; «Жизнь Рембрандта», 1936 г.; «Леди Гамильтон», 1941 г. и др. В 1934 г. Корда поставил фильм о российской императрице «Екатерина Великая». Французский режиссер А. Ганс поставил «Лукреция Борджиа», 1935 г.; «Наполеон», 1935 г. и другие исторические ленты. У. Дитерле – немецкий режиссер, иммигрировавший в США – снял в Голливуде «Повесть о Луи Пастере», 1936 г.; «Жизнь Эмиля Золя», 1937 г. Он был автором и других биографических картин. (Творчество Дитерле освещалось в советской прессе[102] и в значительной степени повлияло на советские историко-биографические картины 1940‑1950‑х гг.).
Советская кинокритика часто подчеркивала различия между советскими и зарубежными историческими биографиями. В 1949 г. Р. Н. Юренев писал: «Советские и западные биографические фильмы не братья, а лишь однофамильцы»[103]. Для советской государственной кинематографии политические задачи были первостепенными. Создаваемые на частных компаниях, зарубежные картины больше были рассчитаны на экономический успех, что вызывало в некоторых из них ориентацию на исторические сенсации, анекдоты, авантюрные или мелодраматические сюжеты и, особо часто, пышность и экзотику костюмов и декораций. Впрочем, все это встречалось и в отечественных кинолентах, так же как пропагандистский заряд (политический, религиозный и др.), который несли в себе многие зарубежные фильмы.
Советский журнал «Искусство кино» перепечатал в 1939 г. статью французского режиссера Ж. Ренуара, в которой он писал: «Современными» фильмами считаются те, где действие происходит в наше время. «Исторические» фильмы должны изображать прошлые времена. Причем, «прошлое» может трактоваться различным образом. Иногда такие фильмы заставляют нас сжиматься от ужаса, иногда заставляют смеяться. Но во всех случаях действие их развертывается в одну единственную, неизменную эпоху – в «исторические времена» или же, если хотите, «в старые годы», – что может означать все, что угодно, начиная эпохой фараонов до Пуанкаре. Это смешение всех эпох под одним заглавием «старые годы» очень удобно для костюмерш, потому что оно позволяет использовать одно и то же платье с туго затянутым корсетом для одеяния Катерины Медичи, «Дамы от Максима», королевы Виктории и Мата Хари»[104].
Цитата известного мастера французского кино показывает многие негативные, и часто комичные, черты исторического кино. И на зарубежных, и на наших студиях иногда использовали антураж одной картины при производстве другой. При просмотре советских игровых исторических фильмов иногда замечается схожее изображение очень разных эпох. Далекие друг от друга исторические периоды воссоздавались порой по канонам «неизменной эпохи исторических времен». «Неизменность» была результатом взгляда на разные века с позиций одного времени – времени постановки фильмов.
Но все эти факты представляют интерес не как повод для иронии. Ориентация на биографию как основу кинопроизведения о прошлом, схожее во многих странах вольное отношение к историческому материалу указывают на параллели в развитии игрового исторического кино на Западе и в СССР. Следовательно, нельзя относить их только к особенностям советской общественно-политической системы. Одновременно и в нашем, и в зарубежном историческом кино 1930‑1940‑х гг. были исключения из биографической тенденции – например, американская картина «Мятеж на “Баунти”» (реж. Ф. Ллойд, 1935 г.), основанная на реальном факте бунта на английском судне в конце XVIII в., или советский «Крейсер “Варяг”» (реж. В. В. Эйсымонт, 1947 г.).
Наименования «биографический» и «исторический» весьма неоднозначны. Р. Н. Юренев, специально изучая проблему жанров, писал: «Понятие об историческом жанре столь же мало исследовано в нашей теории, как и понятие о жанре биографическом. Поэтому, не задаваясь специальной целью исследования исторических фильмов, трудно установить различие между этими жанрами с допустимой точностью и полнотой. Различие надо искать в том, что биографический фильм показывает исторические события через образ героя. Герой, исторический характер занимают главенствующее положение в произведениях этого жанра. Исторические же фильмы имеют в основе изображение событий. Например, фильм В. Пудовкина и М. Доллера «Минин и Пожарский», хотя и носит типично «биографическое» название – имена героев, но не может быть причислен к биографическим произведениям, так как характеры основных героев занимают второстепенное место, уступая первенство подробному показу событий 1610–1612 гг. – нашествию поляков на Москву и изгнанию вражеских полчищ вооружённым народом»[105]. Киновед относил к историческим произведениям и «Александра Невского», а вот фильм «Адмирал Нахимов» (реж. В. И. Пудовкин, 1947 г.) считал биографическим. Но в этих фильмах можно найти немало черт, которые покажут субъективность условного деления, предложенного Р. Н. Юреневым.
В целом, отечественные исследователи советского игрового кино чаще всего называют историко-биографическими исторические фильмы периода 1946–1953 гг. В большинстве своем они были посвящены деятелям науки и художественной культуры, просветителям («Александр Попов», реж. Г. М. Раппопорт, В. В. Эйсымонт, 1949 г.; «Композитор Глинка», реж. Г. В. Александров, 1952 г.). Подобные им фильмы появлялись и незадолго до, и вскоре после означенного периода. Но именно в поздние сталинские годы они соответствовали основным стереотипам кинобиографии, составляли значительную часть в числе выпускаемых картин, были формально и содержательно очень схожими. Это привело к закреплению наименования историко-биографический за отдельным жанровым направлением определенного этапа развития кино в СССР.
В зарубежном игровом кино есть свои особые обозначения поджанров исторического направления. Например, так называемые пеплумы – исторические ленты на сюжеты античной и библейской истории. (В античную эпоху слово «пеплум» обозначало женскую верхнюю одежду).[106] Одним из первых пеплумов была «Кабирия» 1914 г. На протяжении всего XX в. подобные киноколоссы периодически вновь входили в моду. «Гладиатор» (реж. Р. Скотт, 2000 г.) стал началом нового, продолжающегося по сей день подъема популярности пеплумов, являющихся одним из многих поджанров исторического игрового кино.
93
Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана. – М., 2011. – С. 59.
94
Соболев Р. П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М., 1961. – С. 14.
95
Исторический фильм // Энциклопедический словарь кино. – С. 156.
96
Добренко Е. А. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. – М., 2008. – С. 26.
97
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 125. Д. 71. Л. 84.
98
Пудовкин В. И. Соб. соч. в 3 т. – М., 1974–1976. – Т. 2. – С. 229.
99
Пудовкин В. И. Соб. соч. – Т. 2. – С. 235.
100
Там же. – С. 229, 236.
101
Пудовкин В. И. Соб. соч. – Т. 3. – С. 322.
102
Авенариус Г. Уильям Дитерле // Искусство кино. – 1939. – № 10. – С. 56–61; Муни П. Самое прекрасное мастерство // Искусство кино. – 1939. – № 6. – С. 34–36. (Пол Муни – исполнитель ролей Пастера и Золя в фильмах Дитерле).
103
Юренев Р. Н. Советский биографический фильм. – М., 1949. – С. 51.
104
Жан Ренуар о проблеме исторического фильма // Искусство кино. – 1939. – № 4. – С. 60.
105
Юренев Р. Н. Советский биографический фильм. – С. 223.
106
Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана. – С. 35.