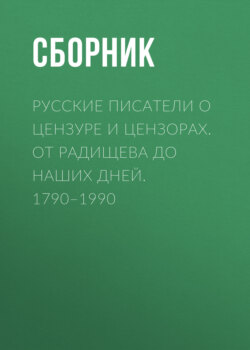Читать книгу Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990 - Сборник - Страница 14
Часть I
Эпоха императорской цензуры
Дореформенная Россия
(конец XVIII – первая половина XIX в.)
А. С. Пушкин
Послание цензору
ОглавлениеУгрюмый сторож Муз, гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы[40],
У нас писатели, я знаю, каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа,
И чистая душа перед тобою права.
Во-первых, искренно я признаюсь тебе,
Нередко о твоей жалею я судьбе:
Людской бессмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова[41], Буниной[42] единственный читатель,
Ты вечно разбирать обязан за грехи
То прозу глупую, то глупые стихи.
Российских авторов нелегкое встревожит:
Кто английский роман с французского преложит,
Кто оду сочинит, потея да кряхтя,
Другой трагедию напишет нам шутя —
До них нам дела нет; а ты читай, бесися,
Зевай, сто раз засни – а после подпишися.
Так, цензор мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюффон[43],
Державин, Карамзин манят его желанье,
А должен посвятить бесплодное вниманье
На бредни новые какого-то враля,
Которому досуг петь рощи да поля,
Да, связь утратя в них, ищи ее с начала,
Или вымарывай из тощего журнала
Насмешки грубые и площадную брань,
Учтивых остряков затейливую дань.
Но цензор гражданин, и сан его священный:
Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
Он сердцем почитать привык алтарь и трон;
Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов,
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность умеет на себя;
Полезной Истине пути не заграждает,
Живой поэзии резвиться не мешает.
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив.
А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами[44];
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына[45] Маратом.
Решил, а там поди, хоть на тебя проси.
Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?
И если говорить задумают о деле,
То, славу русскую и здравый ум любя,
Сам государь велит печатать без тебя[46].
Остались нам стихи: поэмы, триолеты,
Баллады, басенки, элегии, куплеты,
Досугов и любви невинные мечты,
Воображения минутные цветы.
О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз;
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца Пиров[47], столь чистый, благородный —
Ничто не трогает души твоей холодной.
На всё кидаешь ты косой, неверный взгляд.
Подозревая всё, во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нимало не похвальный:
Парнас не монастырь и не гарем печальный,
И право никогда искусный коновал
Излишней пылкости Пегаса не лишал.
Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков[48] шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал[49],
И Пушкина стихи в печати не бывали[50];
Что нужды? их и так иные прочитали.
Но ты свое несешь, и в наш премудрый век
Едва ли Шаликов[51] не вредный человек.
Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты Наказ Екатерины?[52]
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный[53]
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин[54] и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер[55] истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки[56] двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они?
Кто ж в этом виноват? перед тобой зерцало:
Дней Александровых прекрасное начало[57].
Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать[58],
И в рабстве ползали и люди и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец…
Исправься ж: будь умней и примирися с нами.
«Всё правда, – скажешь ты, – не стану спорить с вами:
Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно – а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На всё есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам[59], Руссо, Вольтер,
А нынче и Миллот[60] попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети…»
Жена и дети, друг, поверь – большое зло:
От них всё скверное у нас произошло.
Но делать нечего; так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно,
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря[61].
1822
При жизни автора, как и другие публикуемые далее произведения, не печаталось и распространялось в многочисленных списках. Впервые опубликовано в «Собрании сочинений» Пушкина, подготовленном П. В. Анненковым (СПб., 1857). Учитывая цензурные требования, напечатано под названием «Первое послание к Аристарху», причем с исключением ряда стихов и слов «глупец и трус». В полном виде впервые напечатано в 1858 г.
в Лондоне в герценовской «Полярной звезде».
«Послание… направлено против цензора А. С. Бирукова, по выражению Пушкина – “трусливого дурака”, отличавшегося излишней боязливостью и строгостью, “соединенной с неразумением силы языка”» (Пушкин А. С. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 2. М., 1926. С. 30). Адресат этого памфлета все же шире. Бируков, так же как и Красовский, воспринимались в литературной среде скорее как фигуры собирательные, их имена фигурировали как нарицательные для обозначения трусливого и глупого цензора.
Письма Пушкина друзьям из ссылки наполнены вопросами: «Верно не лезет сквозь цензуру?», «Не запретила ли цензура?» и т. п. Пушкина особенно раздражала «целомудренность» российской цензуры, граничившая с крайним пуританизмом. В том же 1822 г. в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей» он задавал себе такой вопрос:
Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?
10 октября 1824 г. он пишет Вяземскому из Михайловского: «Я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя – или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского». Бируков («гонитель давний мой») придирчиво отнеся к тексту «Кавказского пленника» (1821), потребовав в числе прочего замены выражения «небесный пламень».
Поручив в 1823 г. Вяземскому издать «Кавказского пленника» по возможности без цензурных искажений, он пишет 14 октября из Одессы в Москву:
«Не много радостных ей дней
Судьба на долю ниспослала.
Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей – ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала. То ли дело. Ночей, ибо днем она с ним не видалась – смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? Которые из 24 часов именно противну духу нашей цензуры?..» «Имябоязнь» и «словобоязнь», столь присущие логократическим режимам, где царствуют одни только «слова, слова, слова…», очень хорошо были знакомы поэту. Посылая свои «бессарабские бредни», среди них послание «К Овидию», он пишет Бестужеву: «Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и до́лжно обмануть, ибо она очень глупа – по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по Тавриде), повторяю вам, она ужасно бестолкова, но, впрочем, довольно сговорчива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и всё будет слажено». Уловка вполне удалась: Бестужев напечатал «К Овидию» в «Полярной звезде» на 1823 г. без подписи, поставив вместо нее две звездочки.
40
Что нужно Лондону, то рано для Москвы… – По мнению русских писателей, Англия в те годы была единственной страной, в которой осуществлена свобода печати. Действительно: предварительная цензура была в Англии отменена раньше, чем в других странах, – в 1693 г.
41
Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1832), граф – поэт, постоянная жертва эпиграмм поэтов пушкинского круга.
42
Бунина Анна Петровна (1774–1828) – поэтесса.
43
Бюффон Жорж Луи-Леклерк де (1707–1788) – французский ученый-натуралист.
44
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами… – переиначенные строки из стихотворения Державина «Вельможа»:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
45
Куницын Александр Петрович (1783–1840) – преподавал в Лицее «нравственные и политические науки», затем – профессор Петербургского университета. Его труд «Право естественное» (СПб., 1818–1820) был запрещен, а сам он уволен из университета.
46
Сам государь велит печатать без тебя… – т. е. без цензуры: так, в виде исключения, была напечатана «История государства Российского» Н. М. Карамзина.
47
Певец пиров – имеется в виду Е. А. Баратынский, автор изданных в 1821 г. «Пиров».
48
Барков Иван Семенович (1732–1768) – переводчик и автор непристойных стихотворений, распространявшихся в списках.
49
Радищев… цензуры избежал… – Хотя Радищев действительно напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву» в своей домашней типографии, оно, по существующим тогда правилам, все же вышло в свет с дозволения петербургского полицмейстера.
50
Пушкина стихи в печати не бывали… – Комментаторы расходятся в толковании этой строки: одни полагают, что речь идет о стихах В. Л. Пушкина, особенно о его «Опасном соседе», не «попавших в печать», другие – что поэт намекает на свои вольнолюбивые стихотворения, широко расходившиеся в рукописных списках. Справедлива все же первая точка зрения.
51
Шаликов Петр Иванович (1768–1852) – поэт, редактор официозной газеты «Московские ведомости», эпигон Карамзина, что вызвало много эпиграмм, исходивших из арзамасского круга.
52
Наказ Екатерины – руководство, составленное Екатериной II для разработки нового уложения законов (1767).
53
Сатирик превосходный – Фонвизин.
54
Кутейкин – семинарист, персонаж комедии «Недоросль».
55
Хемницер Иван Иванович (1745–1784) – поэт-баснописец.
56
Наперсник Душеньки – Ипполит Федорович Богданович (1733–1803), автор стихотворной повести «Душенька» (1778), имевшей большой успех.
57
Дней Александровых прекрасное начало… – начало царствования Александра I. В частности, некоторый либерализм его сказался на первом цензурном уставе 1804 г.
58
Не смел отечество назвать… – В эпоху Павла I запрещены были к употреблению тринадцать слов; среди них слово «отечество», вместо которого предписывалось писать и говорить «государство».
59
Бентам Иеремия (1748–1832) – английский законовед. Его сочинения выходили в русском переводе в 1805–1811 гг.
60
Миллот – Милло Клод-Франсуа-Ксавье (1726–1785), аббат, французский историк XVIII в.; его новый перевод «Всеобщей истории» был издан в русском переводе со значительными цензурными искажениями.
61
Хоть умного себе возьми секретаря… – В басне Крылова «Оракул» говорится о судьях, «которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь».