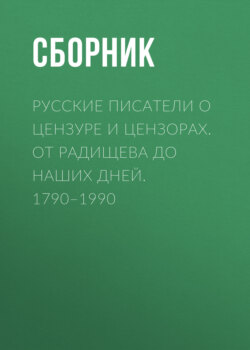Читать книгу Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990 - Сборник - Страница 17
Часть I
Эпоха императорской цензуры
Дореформенная Россия
(конец XVIII – первая половина XIX в.)
А. С. Пушкин
Путешествие из Москвы в Петербург
ОглавлениеО цензуре
Располажась обедать в славном трактире Пожарского, я прочел статью под заглавием Торжок. В ней дело идет о свободе книгопечатанья; любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов. Один из французских публицистов[71] остроумным софизмом захотел доказать безрассудность цензуры. Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства не замедлили б установить цензуру и на язык: издали бы известные правила, и два человека, чтоб поговорить между собою о погоде, должны были бы получить предварительное на то позволение.
Конечно: если бы слово не было общей принадлежностию всего человеческого рода, а только миллионной части оного, – то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но грамота не есть естественная способность, дарованная Богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек безграмотный не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают возможностию и самою способностию писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага также чего-нибудь да стоит.
Следственно печать доступна не всякому. (Не говорю уже о таланте еtс.) Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная – есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.
Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. «Мы в том и не спорим, – говорят противники цензуры. – Но книги, как и граждане, ответствуют за себя. Есть законы для тех и для других. К чему же предварительная цензура? Пускай книга сначала выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, а сочинителя или издателя присудить к заключению и к положенному штрафу».
Но мысль уже стала гражданином, уже ответствует за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона. Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона; не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое.
Из отрывков черновой редакции
После слов «выходит изо всех пределов»:
Приступая к рассмотрению сей статьи, долгом почитаю сказать, что я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось.
После слов «типографического снаряда»:
Взгляните на нынешнюю Францию. Людовик Филипп, воцарившийся милостию свободного книгопечатания, принужден уже обуздывать сию свободу, несмотря на отчаянные крики оппозиции.
Глава оканчивалась (после слов «овладеть вами совершенно»):
Сказав откровенно и по чистой совести мнение мое о свободе книгопечатания, столь же откровенно буду говорить и о цензуре.
Высший присутственный приказ в государстве есть тот, который ведает дела ума человеческого. Устав, коим судии должны руководствоваться, должен быть священ и непреложен. Книги, являющиеся перед его судом, должны быть приняты не как извозчик, пришедший за нумером, дающим ему право из платы рыскать по городу, но с уважением и снисходительностию. Цензор есть важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями, а не первый коллежский асессор, который, по свидетельству формуляра, учился в университете. Рассмотрев книгу и дав оной права гражданства, он уже за нее отвечает, ибо слишком было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя, честно[72] соблюдающего узаконенные правила, под предлогом злоумышления, бог ведает какого. Но и цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им, и делать из него уже не стража государственного благоденствия, но грубого буточника, поставленного на перекрестке с тем, чтоб не пропускать народа за веревку. Большая часть писателей руководствуется двумя сильными пружинами, одна другой противодействующими: тщеславием и корыстолюбием. Если запретительною системою будете вы мешать словесности в его торговой промышленности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию, всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко утешится о денежных убытках. Земская цензурная управа тщательно должна быть отделена от духовной, как было доныне в России. Цензор духовного звания не может иногда без явного неприличия позволить то, что в светском писателе не подлежит ни малейшей укоризне. Например, божба, призвание имени божия всуе, шутки над грехами еtс. Что было бы верхом неприличия в книге феологической, то разве лицемер или глупец может осудить в комедии или в романе.
Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассевают личную клевету, или кои целию имеют распаление чувственности приапическими изображениями. Тут необходим в цензоре здравый ум и чувство приличия, ибо решение его зависит от сих двух качеств. Не должен он забывать, что большая часть мыслей не подлежит ответственности, как те дела человеческие, которые закон оставляет каждому на произвол его совести. Было время (слава Богу, оно уже прошло и, вероятно, уже не возвратится), что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной: некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например, какой-то стихотворец говорил о небесных глазах своей любезной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить вместо небесных – голубые, ибо слово небо приемлется иногда в смысле высшего промысла! В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить баллады Вальтер-Скотта. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: Переменить, соображаясь со мнением публики. Ода Похвала Вакха была запрещена, потому что пьянство запрещено божескими и человеческими законами. – Спрашивается, каков был цензор и каково было писателям.
Радищев в статье своей поместил Краткое историческое повествование о происхождении цензуры. Если бы вся книга была так написана, как этот отрывок, то, вероятно, она бы не навлекла грозы на автора. В сей статье Радищев говорит, что цензура была в первый раз установлена инквизицией. Радищев не знал, что новейшее судопроизводство основано во всей Европе по образу судопроизводства инквизиционного (пытка, разумеется, в сторону). Инквизиция была потребностию века. То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие нравов и духа времени. История ее мало известна и ожидает еще беспристрастного исследователя.
К этой же главе относится запись:
Увидя разбойника, заносящего нож на свою жертву, ужели вы будете спокойно ждать совершения убийства, чтоб быть вправе судить преступника!
1833–1835
Беловая редакция рукописи, не озаглавленной в автографе, опубликована в посмертном «Собрании сочинений» Пушкина (1841. Т. XI. C. 5—54). В издании сочинений под редакцией П. В. Анненкова получила в 1855 г. условное название «Мысли на дороге», под которым печаталось до 1933 г. Затем получила новый, столь же условный заголовок «Путешествие из Москвы в Петербург».
71
Один из французских публицистов… – Бенжамен Констан в «Размышлениях о конституциях и гарантиях» (1814).
Пушкин, работавший над очерком в 1834 и в начале 1835 г., намеревался напечатать его в своем «Современнике», но он так и остался неопубликованным при жизни. «…Собравшись в дорогу, – сообщает Пушкин в конце первой главы, – я зашел к старому моему приятелю **, коего библиотекой я привык пользоваться. Я попросил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении… “Постой, сказал мне **, есть у меня для тебя книжка”. С этими словами вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. “Прошу беречь ее, – сказал он таинственным голосом. – Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность”. Я раскрыл ее и почитал заглавие “Путешествие из Петербурга в Москву. СПб. 1790 год…” Книга, некогда прошумевшая и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость…» Полагают, что под двумя звездочками скрывался старинный пушкинский приятель, собиратель библиофильских редкостей С. А. Соболевский. Однако Пушкин сам приобрел в 1833 г. один из редчайших, уцелевших от сожжения экземпляров «Путешествия…». Он очень гордился этим приобретением, оставив на форзаце автограф: «Экземпляр бывший в тайной канцелярии заплачен двести рублей».
А. С. Пушкин, который, надо сказать, относился к этой многострадальной книге и ее автору весьма критически и без принятого (особенно в позднейшее время) безоговорочного преклонения и восхищения. По мнению С. А. Фомичева, не стоит ставить знак равенства между мыслями и рассуждениями «путешественника» и самого Пушкина: «Мысль – в пределах закона? Стало быть, сама мысль может быть подсудна? Вполне очевидно, что это не может быть пушкинским убеждением». Спор с Радищевым ведет «московский старожил», исповедующий консервативно-охранительные взгляды, но не чуждый идеям «просвещенного монархизма». Пушкин в этом сочинении как бы сталкивает два взгляда – консервативный и радикальный: «Пушкин противостоит посягательству кого-либо на поиски истины, невозможные без полной свободы мысли» (Фомичев С. А. Скучная книга // Фомичев С. А. Праздник жизни. Этюды о Пушкине. СПб., 1995. С. 298).
Процитировав слова о свободе мысли: «…как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом», исследователи замечают: «Пушкин был совершенно прав, потому что ни в одном обществе свобода печати не бывает абсолютной. Через несколько десятилетий на другом континенте Марк Твен остроумно заметит, что пора подумать о том, как оградить свободу от печати… Различия начинались там, где возникал вопрос, что понимать под “обществом”, и каковы условия, которые оно налагает. В России было несколько обществ и много условий». Они называют далее «общество» царя, III отделения, двора, «общество Фаддея Булгарина», «общество Пушкина и его друзей». «И были другие общества, вплоть до “общества” неграмотного крепостного крестьянства» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»:
Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 241). Какое из них – вот вопрос!..
Отношение Пушкина к цензуре затронуто и в его статье «Александр Радищев», которую он столь же безуспешно пытался опубликовать в «Современнике». Касаясь рассуждений Радищева о цензуре, Пушкин замечает: «…он злится на ценсуру; не лучше ли будет потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».
Несмотря на такую осторожную тональность, статья вызвала следующую резолюцию министра народного просвещения Уварова (18 августа 1836 г.): «Статья по себе недурна, и с некоторыми изменениями могла быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». Через четыре года он же, когда вновь рассматривалась эта статья на предмет разрешения ее публикации в посмертном собрании сочинений, писал: «При рассмотрении этой статьи я нахожу, что она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении её» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 107–108).
Характерно, что либеральный профессор и цензор А. В. Никитенко, автор знаменитых дневников, рассматривавший тексты собрания сочинений 1841 г., в числе «сомнительных» текстов указал именно эту главу: «Статья о ценсуре, где автор опровергает разные нападки на необходимость ценсуры». Этот факт точно прокомментирован: «Статья о ценсуре» и «Этикет» (отрывки из «Путешествия из Москвы в Петербург») вызывали сомнение, ибо касались – пусть в «благонамеренном» духе – тех форм социальной жизни, которые вообще не подлежали обсуждению со стороны частного лица» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 239). В связи с этим важно заметить, что ни один из текстов, приведенных выше, не увидел свет при жизни автора; иное дело, что «презревшие печать», как сам Пушкин писал в раннем «Городке» о бесцензурных рукописях, они были известны современному ему обществу. Цензурные учреждения, надо сказать, всегда крайне щепетильно и ревниво относились к «чести своего мундира», тем более что в их распоряжении находились эффективные средства, пресекающие любую возможность не только критики, но даже упоминания в печати (как это было в советские времена) самого факта их существования.
Надежды поэта на смягчение цензуры не оправдались. Дневник Пушкина заканчивается словами: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова», а Денису Давыдову он пишет: «В чем провинились русские писатели… Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царств<ования> покойн<ого> имп<ератора>, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову».
Как уже говорилось в предисловии, в нашу антологию не входят отрывки из писем, дневников и записных книжек писателей. Если же говорить о Пушкине, то задача эта особенно сложна: отзывы и сужения о цензуре содержатся более чем в сорока письмах. Помимо этого, речь о ней почти непременно заходит в исполненных чувства собственного достоинства письмах, адресованных А. Х. Бенкендорфу как начальнику III Отделения, выступавшему своего рода посредником между Пушкиным и царем (его знаменитое обещание: «Я буду твоим цензором!»). Имеет смысл привести здесь лишь два эпизода, зафиксированных в письмах Пушкина из ссылки, в которых вещи названы своими именами, без оглядки на цензуру. 6 февраля 1823 г. он пишет из Кишинева Вяземскому, напечатавшему в «Сыне Отечества» (1822. Ч. 82. № 49) восторженную статью о «Кавказском пленнике», в которой, между прочим, содержался эвфемистический намек на цензурные купюры в поэме: «<…> мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном убеждении, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного» (подробнее см. комментарии Б. Л. Модзалевского в кн.: Пушкин А. С. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 1. 1815–1825. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 267). Пушкин одобрил этот пассаж: «Благодарю за щелчок по цензуре, но она и не этого сто́ит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий, как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется, лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом – презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся – дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную…» Однако в следующем письме, в марте 1823 г., Пушкин все-таки предупреждает Вяземского об опасности предложенного им совместного выступления: «Твое предложение собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, такой поступок примется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь ужасные подозрения и причинить большие беспокойства… Соединиться тайно – но явно действовать в одиночку, кажется, вернее». Свое намерение «действовать в одиночку» Пушкин выполнил, написав первое «Послание цензору», направленное против Бирукова.
В еще более решительной тональности звучит отрывок из письма тому же Вяземскому, посланного из Одессы 4 ноября 1823 г.: «Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание… Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия – лучше об ней и не думать <…>»
Резко отрицательно относился Пушкин к цензуре «предшествующего царствования», о чем свидетельствует черновик его деловой записки для Бенкендорфа от июля-августа 1830 г.: «Литераторы во время царствования покойного императора были оставлены на произвол цензуре своенравной и притеснительной – редкое сочинение доходило до печати». Несмотря на все инвективы и филиппики, направленные против гонителей мысли, он все-таки полагал, что без «просвещенной» цензуры государство обойтись не может, что умеренное ограничение свободы печати необходимо – но в строго очерченных законных пределах. Резкая же отмена цензуры, учитывая состояние общества, сразу же обнаружит, выведет на поверхность все то черное и рабское, что таилось до времени и не могло обнаружиться благодаря правительственным стеснениям. Цензура, на его взгляд, мало мешает истинному творцу, но может послужить заслоном против разнузданной журнальной пошлости, против «литературных промышленников», которые начали уже в пушкинские времена заполонять рынок своей продукцией:
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Пушкин призывал писателей стоически переносить тяготы, в том числе и цензурные, сопряженные с их профессией и призванием. В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) он предупреждал их:
«<…> дружина ученых и писателей, какого б рода она ни была, всегда впереди во всех набегах просвещения и на всех приступах образованности. Не до́лжно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Советуя Вяземскому заняться биографией Карамзина, он заметил: «…скажи всё: для этого до́лжно употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 286). Речь здесь идет о письме от 24 сентября 1774 г. мадам Эпинэ аббата Фердинанда Галлиани (1728–1787), остроумца и философа-скептика, в котором он заметил: «Боже Вас сохрани от свободы печати, проведенной при помощи указа. Ничто более этого не посодействует огрубению нации, уничтожению вкуса, порче красноречия и всяких способностей. Знаете ли Вы мое определение того, что такое ораторское искусство? Это – искусство сказать всё, – и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего» (другой перевод: «где запрещено говорить всё». Подробнее см.: Письма. М., 1989. Т. 2. С. 14, 170).
Пушкин с сочувствием приводит слова Карамзина, заметившего однажды: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе». Единственный выход – «медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Под конец жизни Пушкину становится близок карамзинский парадокс: «Если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он (т. е. Карамзин. – А. Б.) с женой и детьми уехал бы в Константинополь». Крайне характерно, что завет Карамзина нашел отклик у Александра Кушнера, современного поэта (Кушнер А. Кустарник. СПб.: Пушкинский фонд, 2002):
Считай, что я живу в Константинополе,
Куда бежать с семьею Карамзин
Хотел, когда б цензуру вдруг ухлопали
В стране родных мерзавцев и осин.
Мы так ее пинали, ненавидели,
Была позором нашим и стыдом,
Но вот смели – и что же мы увидели?
Хлев, балаган, сортир, публичный дом…
72
Несостоятельность закона столь же вредит правительству (власти), как и несостоятельность денежного обязательства. (Прим. А. С. Пушкина.)