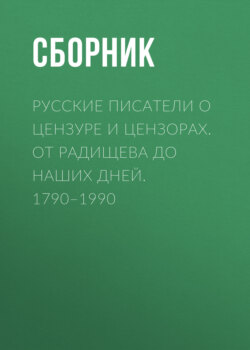Читать книгу Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990 - Сборник - Страница 43
Часть I
Эпоха императорской цензуры
Накануне и после великих реформ
(Вторая половина XIX в.)
М. Е. Салтыков-Щедрин
Из высказываний о цензуре
Оглавление[О гласности]
<…> Но вот и в третьем углу засели либералы, и в третьем углу ведется живая и многознаменательная беседа. – А что вы скажете о нашей дорогой новорожденной? ведь просто, батюшка, сердце не нарадуется! – говорит очень чистенький, с виду весьма похожий на мышиного жеребчика старичок, бойко поглядывая по сторонам и как бы заявляя всем и каждому: «Не смотрите, дескать, что наружность у нас тихонькая, и мы тоже не прочь войти в задор… Как же-с!» – Вы знаете, что на языке наших мышиных жеребчиков под именем «дорогой новорожденной» следует разуметь гласность и что гласность в настоящее время составляет ту милую болячку сердца, о которой все говорят дрожащими от радостного волнения голосами, но вместе с тем заметно перекосивши рыло на сторону. – Удивительно! – отвечает другой такой же бодренький, румяненький старичок, – мы вчера читаем с Петром Иванычем да только глаза себе протираем! – А помните ли, прежде-то! Получишь, бывало, книжку журнала: либо тебе «труфель» подносят, либо «Двумя словами о происхождении славян» потчуют… Просто, можно сказать, засоряющая зрение литература была!
Из цикла «Сатиры в прозе». Отрывки печатаются по изд.: Салтыков-
Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1965–1977. Т. 3. С. 404 (далее указываются только номер тома и страницы).
[Седьмая держава]
<…> Да, надо сознаться, что в наши дни пресса приобрела такое значение, которому равное представляет лишь Главное управление по делам книгопечатания[127]. Это две новые великие державы, которые народились на наших глазах и которые в равной мере украсили знаменитую меттерниховскую пентархию[128].
Возникли они одновременно, чего, впрочем, и следовало ожидать. Еще покойный Ансильон (а у нас Иван Петрович Шульгин) заметили, что одна великая держава непременно стремится нарушить политическое равновесие, а одновременно с нею другая великая держава непременно же стремится восстановить его.
Так точно и тут. Как только пресса обнаруживает стремление нарушить равновесие, так тотчас же Главное управление открывает по ней огонь из всех батарей. Как это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно: во-первых, потому, что таков уж сам по себе неумолимый закон истории (по Ансельму), а во-вторых, и потому, что в противном случае нас ожидают предостережения, воспрещения розничной продажи, аресты, приостановки и проч. <…>
__________
<…> В недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою. <…> Писания свои корреспонденты отправляют в газеты, но бабушка еще надвое сказала, увидят ли они свет, потому что существует еще седьмая великая держава, которая вообще смотрит на корреспондентов, как на лиц неблагонадежных, и допускает или прекращает их деятельность по усмотрению.
1877
Из циклов «Сатиры в прозе» и в «В среде умеренности и аккуратности, Отголоски, III (Тряпичкины-очевидцы)» (Т. 3. С. 212).
[Эзопов язык]
<…> А иносказательный рабий язык! А умение говорить между строками? <…> Рабий язык все-таки рабий язык, и ничего больше (1882. Письма к тетеньке: Т. 14. С. 402).
__________
Прежде хоть «рабьи речи» слышались, страстные «рабьи речи», иносказательные, понятные; нынче и «рабьих речей» не слыхать (1874. Помпадуры и помпадурши: Т. 8. С. 200).
__________
С одной стороны, появились аллегории, с другой – искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа езоповскою (1875. Неоконченные беседы: Т. 15. С. 185).
__________
<…> Помилуй, один езоповский язык чего стоит! <…>
Ежели в писаниях моих и обретается что-либо неясное, то никак уже не мысль, а разве только манера. Но и на это я могу сказать в свое оправдание следующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Езоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части русского искусства, и я лично тут ровно не при чем. Иногда, впрочем, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ее обязательности, писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых, при прямом изложении предмета, не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в память читателя… Повторяю: это манера, несомненно, рабья, но при соответственном положении общества вполне естественная, и изобрел ее все-таки не я. А еще повторяю: оно нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными (1879. Круглый год: Т. 13. С. 465, 505).
__________
<…> ужели есть на свете обида более кровная, нежели нескончаемое езопство, до того вошедшее в обиход, что нередко сам езопствующий перестает сознавать себя Езопом? (1878. Похороны: Т. 12. С. 404).
__________
Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на езоповых притчах сидим (1881. За рубежом: Т. 14. С. 164).
Эзопов язык, получивший свое название по имени древнегреческого баснописца Эзопа, жившего в VI в. до н. э., – язык иносказаний, аллюзий и аллегорий, созданный в целях обвода цензуры и рассчитанный на «понимающего» читателя. Это выражение введено и получило широкое распространение благодаря именно Щедрину.
Писатель, вынужденный сам постоянно пользоваться эзоповской манерой, судя по приведенным отрывкам, с ненавистью писал об этом способе выражения своих мыслей. Это, правда, позволяло добиться большого художественного эффекта его сатир, но не искупало и не заменяло достоинств «прямой речи». Об использовании эзоповских приемов в советское время см. далее фрагменты из повести Фазиля Искандера «Поэт» и комментарии к ним.
127
Главное управление по делам книгопечатания – более точно: Главное управление по делам печати, созданное в 1865 г. при министерстве внутренних дел как верховное цензурное ведомстсво.
128
Меттерниховская пентархия – великими державами называли пять государств (Англия, Пруссия, Франция, Россия и Австро-Венгрия), образовавших в 1815 г., после победы над Наполеоном, «Священный союз». Ведущую роль в его создании играл австрийский канцлер Меттерних. Шестой державой стали называть прессу, Щедрин же придумал «седьмую», подразумевая под ней не названную – опять-таки по вполне понятным соображениям – отечественную цензуру. Этот термин встречается позднее у В. В. Розанова (см. ниже). Писатель на собственном горестном опыте испытал все тяготы цензуры, начиная с одной из ранних повестей конца 40-х годов «Запутанное дело», в которой обнаружено «вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу». Публикация повести стала причиной его ссылки в Вятку.
Особенно тяжело воспринимал Щедрин постоянные нападки на его любимое детище – журнал «Отечественные записки», который он редактировал 16 лет, с 1868 по 1884 г. В 1884 г. журнал прекратил свое существование, будучи закрыт специальным решением министерства внутренних дел. Щедрин, страдавший от цензуры всю свою жизнь, оставил массу гневных высказываний о ней в многочисленных письмах. В них цензура уже названа собственным именем, а не эвфемистическим, как это видно из приводимых отрывков.