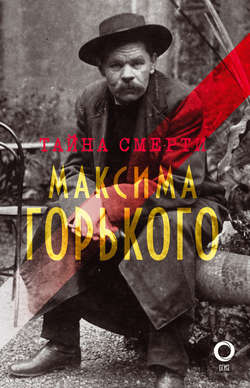Читать книгу Тайна смерти Горького: документы, факты, версии - Сборник - Страница 7
ТАЙНА СМЕРТИ
Тайна смерти Горького
ОглавлениеЛ. А. Спиридонова
Количество работ, посвященных этой теме, огромно, но большая их часть не опирается на серьезные документальные данные. Только после того как в годы «перестройки» были обнародованы рассекреченные материалы из архива ОГПУ, довольно убедительная версия естественной смерти писателя, которую 70 лет поддерживало советское литературоведение, стала вызывать все больше сомнений. Впрочем, и ранее многие исследователи придерживались мнения, что смерть Горького была насильственной. До сих пор наиболее распространенной является версия, согласно которой писателя убил Сталин, который якобы боялся, что Горький перестанет молчать и сообщит Западу всю правду о событиях в Советском Союзе. Попробуем разобраться в этом непростом вопросе, учитывая новые архивные документы и руководствуясь одной задачей: выяснить, кому же на самом деле нужна была смерть писателя летом 1936 года.
Если отбросить легенды и домыслы, обратившись к разным версиям в их первоисточниках, то они сведутся к трем:
1. Официальная точка зрения советской печати, согласно которой Горького устранили «прихвостни и агенты буржуазии», «предатели социалистической революции», «троцкисты и правые» по приказу Л. Троцкого. В убийстве Горького на процессе 1938 года были обвинены Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Ягода, П. Крючков, лечащие врачи Л. Г. Левин и Д. Д. Плетнев [159].
2. «Умерщвление» по приказу Сталина, хитроумно осуществленное Г. Г. Ягодой и его подчиненными (в их число в последнее время включают даже М. И. Будберг, считая ее тайным агентом ОГПУ) [160].
3. Естественная смерть в результате двустороннего воспаления легких, которого не вынес старческий организм, ослабленный постоянно протекавшим туберкулезным процессом.
Автором первой версии является, по всей вероятности, И. В. Сталин. В официальной советской пропаганде она была использована для борьбы с его политическими противниками и устранения Н. Бухарина, А. Рыкова, Л. Каменева, Г. Зиновьева. Она активно развивалась в центральных советских изданиях 1930-х годов и была изложена в книге М. Кольцова «Буревестник (Жизнь и смерть Максима Горького)», вышедшей в 1938 году сразу после нашумевшего политического процесса над так называемым «правотроцкистским блоком».
Вторая версия создана, в противовес первой, Л. Д. Троцким. Ссылаясь на свидетельства людей, близких к наркому внутренних дел Г. Г. Ягоде, он рассказал о существовании в ОГПУ секретной токсикологической лаборатории, яды которой «помогали» многим видным советским деятелям уйти из жизни. Троцкий считал, что в процессе болезни Горького Сталин «слегка помог разрушительной силе природы» [161]. Эта версия развивалась также в романе Луи Арагона «Гибель всерьез» («Умерщвление»); обрастая разного рода дополнительными соображениями, она дожила до наших дней.
Наконец, третья версия – естественной смерти писателя – со слов профессора Д. Д. Плетнева создана М. И. Будберг, неотлучно находившейся возле умирающего писателя. Эту концепцию подтверждают В. Ходасевич и Н. Берберова. В романе «Железная женщина» (Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях) последняя склоняется к выводу о естественной смерти Горького, хотя и допускает, что Сталин мог приблизить роковой конец. Берберова пишет: «Кровохарканье, ослабление сердечной деятельности, а также двустороннее воспаление легких кажутся в свете прежних заболеваний Горького и застарелого туберкулеза естественными причинами смерти» [162]. Берберову поддерживает Ходасевич: «Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости, но этот процесс был залечен лет сорок тому назад…» [163].
Третья версия оказалась удобной во всех отношениях, тем более что после вскрытия врачи обнаружили, что легкие писателя были в ужасающем состоянии. После смерти сына он чувствовал себя очень плохо, ходил, тяжело опираясь на палку, постоянно пользовался кислородными подушками. Было ясно, что жить ему осталось недолго. Но «недолго» не значит «лето 1936 года»… Да и могла ли Будберг сказать правду о последних днях Горького, не боясь быть заподозренной в причастности к его смерти?
Обстоятельства болезни и смерти Горького стали ясны только после того, как в 2001 году были впервые опубликованы документы, позволяющие восстановить эти дни довольно точно: газетные сообщения, история болезни писателя, акт вскрытия, заключение о смерти, воспоминания врачей М. П. Кончаловского, А. Д. Сперанского, Л. Г. Левина, Д. Д. Плетнева, а также близких, находившихся в доме (Е. П. Пешковой, М. И. Будберг, О. Д. Чертковой, секретаря П. П. Крючкова), записи коменданта дома на Малой Никитской И. М. Кошенкова и личного шофера Г. А. Пеширова. Все эти материалы помогают воссоздать более или менее объективную картину смерти Горького.
В конце мая 1936 года Горький жил в Крыму и не собирался в Москву, хотя скучал без внучек. Внезапно ему сообщили об их болезни. Алексей Максимович встревожился: после гибели сына он воспринимал такие известия подозрительно. Писатель догадывался, что смерть Максима была не случайной, подозревал Ягоду и его подручных. Неужели теперь – внучки? Горький сразу стал собираться в дорогу, хотя для его здоровья это был большой риск. 27 мая 1936 года он вышел в Москве из вагона и тут же спросил: «Дети приехали?» – «Нет». «Что, все еще больны?» В доме на Малой Никитской Горький сразу зашел в детскую, хотя его отговаривали, боясь, что он заразится. 1 июня 1936 года по дороге на дачу в Горки-10 всей семьей заехали на Новодевичье кладбище. Дул холодный ветер, писатель поеживался, а вечером у него поднялась температура. На третий день болезни стало ясно, что дело серьезное. Г. Ягода распорядился пригласить в Горки-10 кремлевских докторов.
Можно предположить, что Горький заболел, заразившись от внучек. Младшая, Дарья, продолжала болеть на даче. Из записей Кошенкова ясно, что за течением болезни внимательно следили. Чекист, бывший сотрудник журнала «Наши достижения», Кошенков работал комендантом в доме на Малой Никитской и ежедневно записывал все, что происходило. Будучи связным между Горками-10, где умирал писатель, и остальным миром, комендант фиксировал не только факты, но и детали специфической атмосферы, которая окружала семью Пешковых. Это была атмосфера «золотой клетки», в которой под постоянным наблюдением никто не чувствовал себя свободно. Кто управлял событиями за кулисами, Кошенков и окружавшие его люди не знали, но безошибочно чувствовали присутствие чьей-то злой воли.
За ходом болезни не просто следили. Был определенный круг лиц, заранее уверенных в летальном исходе и даже знающих дату неизбежной смерти. Иначе как объяснить зловещие бюллетени в газетах, печатавшиеся с 6 июня (от Горького их скрывали), и телефонные звонки с соболезнованием о кончине, которая, по-видимому, должна была наступить 8 июня. В воспоминаниях Кошенкова зафиксировано несколько фактов, вызывающих по меньшей мере недоумение: 3 июня архив писателя был вывезен из дома на Малой Никитской, 6. Коменданта удалили на несколько часов, чтобы он не позвонил в Горки и не поинтересовался, делается ли это с разрешения Алексея Максимовича. Телефон 2—88–60, как выяснилось впоследствии, был неисправен с 31 мая до 8 июня, а комендант даже не догадывался об этом. Кошенков не рискнул спросить, куда увозят бумаги, подозревая, что это делается по распоряжению Ягоды, но предположил, что Горький тяжело заболел. Между тем изъятие архива означало лишь одно: хозяин больше в этот дом не вернется.
Болезнь Горького развивалась стремительно: первоначальный диагноз «грипп и бронхопневмония» осложнился впоследствии явлениями сердечной недостаточности. К летальному исходу привело сильное кровотечение, которое вызвало отек легких и паралич сердца. В клиническом диагнозе и медицинском заключении о смерти говорится также о тяжелой инфекции и связанной с ней инфекционной нефропатии. Совершенно ясно, что в доме была какая-то инфекция. Название ей дали, когда один за другим стали заболевать служащие в Горках-10: комендант, жена коменданта, повар, горничные. К 17 июня на даче болело уже семь человек. По словам Кошенкова, всех больных вывезли в Москву с одинаковым диагнозом – ангина, который поставила врач кремлевской больницы М. А. Введенская, лечившая девочек. Их держали в изоляторе НКВД, не хотели выписывать бюллетени, не разрешали никуда выходить, а коменданту велели после них продезинфицировать сиденья в машине.
С утра 6 июня телефон на Никитской не умолкал. Кошенкову приходилось отвечать на вопросы, странно сформулированные: «Что, Алексею Максимовичу не хуже еще?», «Что в Горках, не хуже?» Несколько раз звонил взволнованный Бухарин, говоря: «Куда направлять телеграмму: в Форос или вам, по московскому адресу?», а потом объяснил: «Нам сообщили в редакцию, что конец печален. Умер Алексей Максимович» [164]. Такое же сообщение пришло в редакцию «Крестьянской газеты». Кошенков недоумевает: «Сегодня по телефону третьи спрашивают: “Когда скончался Алексей Максимович?”» Много телеграмм из Харькова – одинаковые по содержанию текста: «Сочувствуем и разделяем с семьею потерю близкого, родного Алексея Максимовича» [165].
Резкое ухудшение действительно наступило 8 июня: Горький умирал. Состоялся очередной консилиум, причем врачи так и не пришли к общему мнению. Из Горок сообщили: «Точного диагноза болезни никто не дает» [166]. Когда надежды не было никакой и врачи ушли вниз, медсестра О. Д. Черткова ввела больному 20 кубиков камфары, и он начал оживать. В это время сообщили, что умирающего приехали навестить И. Сталин, К. Ворошилов и В. Молотов. Горький разговаривал с вождями как здоровый, просил решить вопрос о дешевом издании «Истории Гражданской войны». Сталин потребовал принести шампанского, чтобы выпить за здоровье Горького. О. Д. Черткова пишет: «В дверях в кабинет он спросил Крючкова: «А кто это сидит рядом с А.М. в черном? Монашка, что ли?» Крючков разъяснил, что это М<ария> И<гнатьевна>. «Свечки только в руках не хватает», – сказал Сталин. А про меня спросил: кто такая? Крючков объяснил, что я за А.М. ухаживаю. «Всех отсюда вон, – сказал С<тал>ин, – кроме этой, в белом (я была в белом халате), что за ним ухаживает». Принесли шампанское. Они чокнулись с А.М. «Вам, пожалуй, лучше не пить», – сказал С<тали>н А. М-чу. Тот только пригубил. В столовой С<талин> увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», – сказал он К<рючко>ву. Генриха он не любил» [167].
Как-то не вяжется этот рассказ с обликом «убийцы Сталина», который пришел убедиться, что Ягода, Будберг и Крючков выполнили данное им задание. Почему он стал ругать Крючкова и потребовал выгнать Ягоду? Почему так отнесся к Будберг, если, по утверждению Берберовой, та привезла для него чемодан с горьковским архивом, где были материалы, компрометирующие его политических врагов? Существует мнение, что Горький, долго питавший к Будберг нежные чувства, вызвал ее в Москву, чтобы проститься перед смертью.
Дело, однако, было не в чувствах, которые с его стороны уже угасли, а с ее – вряд ли существовали. Речь шла о той части архива, которую Горький, окончательно уезжая из Сорренто, оставил на хранение Будберг. После смерти М. Пешкова и убийства Кирова писатель потребовал вернуть чемодан. Будберг приехала в апреле 1936 года, когда писатель был еще здоров и жил в Тессели. Об этом свидетельствует Черткова, находившаяся постоянно при писателе. Рукописей Будберг не вернула, поэтому при свидании разразилась ссора. Она сразу же отправилась в Москву и вновь приехала лишь к умирающему Горькому. Сидя рядом с ним в черной одежде, она, несомненно, знала, что он умирает, и добивалась от него завещания в свою пользу – на гонорары от зарубежных изданий.
А что же Сталин? Вождю явно было нужно что-то узнать у писателя. 10 июня в 2 часа ночи он вновь приехал в Горки. Горький спал. И хотя Левин предложил разбудить больного, Будберг воспротивилась. Ее поддержали профессора Ланг и Кончаловский. Сталину было сказано, что писателя нельзя беспокоить. 12 июня, когда Горький, оправившись после кризиса, чувствовал себя довольно хорошо, Сталин и Ко приехали в третий раз. Будберг ушла из комнаты, но подслушивала у дверей. Она вспоминает, что Горький «сперва заговорил о работе Шторма по истории крестьянства, а потом перешел к положению французского крестьянина» [168]. Посетители вышли через восемь минут: разговор не состоялся. Горький был «застегнут на все пуговицы», просил О. Д. Черткову записывать даже его предсмертный бред. В эти дни он почти не спал, держась в сознании гигантским усилием воли.
Чего добивался от него Сталин? Сведений о заговоре против него, который готовила оппозиция? Тех бумаг, которые хранила Будберг? Говоря о рукописях, за которыми шла охота, И. М. Гронский обмолвился в 1963 году: «… мы их и сейчас не имеем – он уклонялся от разговора. Мы пытались выяснить, но до сих пор не знаем, куда они ушли и у кого находятся. Если бы мы знали, мы бы их купили» [169]. Горький действительно уклонялся от разговора об архиве, не давал никаких распоряжений и не оставлял завещания. 15 июня Кошенкова испугал анонимный звонок: «Вы что сидите на Никитской. Помогайте!» И перед тем как положить трубку, незнакомец еще добавил: «Сволочи!» [170] В эти дни врачи окончательно потеряли нить болезни. События разворачивались стремительно. 16 июня Кошенкова озадачил звонок из Кремля: «Телефон Горького? – Да. – Что, достигаете желанного, подлецы?» Испуганный комендант позвонил в Горки. В 12 часов ночи к аппарату подошла Н. А. Пешкова: «Передайте всем, у нас хорошо» [171]. А утром 17 июня у Горького хлынула горлом кровь.
В официальном медицинском заключении о смерти А. М. Горького говорится о гриппе, который осложнился впоследствии катаром верхних дыхательных путей и тяжелой инфекцией, о чем свидетельствовали «повторные исследования крови». Смерть наступила «при явлениях паралича сердца и дыхания» [172]. Загадку смерти писателя помогли разгадать два любопытных документа, вклеенных Л. Г. Левиным в «Историю болезни Пешкова Алексея Максимовича», заведенную в Кремлевской поликлинике под № 631. Первый из них помечен 8 июня, т. е. написан в тот день, когда Горького чудом вернули к жизни. Это обращение заведующего консульским отделом СССР во Франции П. И. Бирюкова начальнику Лечсанупра Кремля И. И. Ходоровскому с предложением использовать для лечения больного «сыворотку против гриппа», разработанную в Париже врачом Онг-Гвае-Свяном. Он писал: «Врач этот работает в госпитале Бруссе и аттестуется людьми, которым мы доверяем, с самой хорошей стороны, как человек, симпатизирующий Советскому Союзу. Поскольку дело это срочное и мы сами разобраться здесь в качествах предлагаемой сыворотки и возможности ее использовать – не в состоянии, направляю Вам 9 ампул предложенного нам лекарства на Ваше усмотрение» . К письму была приложена записка Онг-Гвае-Свяна на французском языке с объяснением способа употребления сыворотки.
Из воспоминаний Кошенкова мы знаем, что множество врачей обращались с предложением помочь умирающему писателю, но всем им отказывали. Не странно ли, что методу лечения гриппа (а диагноз, поставленный Левиным с самого начала болезни, был именно «грипп, осложненный бронхопневмонией») никому не ведомого, а возможно, и несуществующего голландского гражданина китайца Онг-Гвае-Свяна была дана зеленая улица?
Сыворотку доставили в СССР и, по-видимому, ввели Горькому. Иначе зачем было Левину вклеивать эти документы в историю болезни писателя? Не после этой ли инъекции в клиническом диагнозе появилась запись «Инфаркт легких (?)»? Не с этим ли связан странный телефонный звонок из Кремлевки, который так озадачил Кошенкова 16 июня: «Что, достигаете желанного, подлецы?» В историю болезни вклеен еще один документ, датированный 26 июня 1936 года, т. е. через восемь дней после смерти Горького. Это служебная записка за подписью заведующей кремлевской лабораторией Боровской, направленная начальнику Лечсанупра Кремля Ходоровскому. В ней говорится: «Полученная из Парижа сыворотка от больных, выздоровевших после гриппа, в количестве 9 ампул, была проверена на стерильность и безвредность. Из одной ампулы был сделан контрольный посев на различные питательные среды, которые остались стерильны. Для проверки на безвредность 10 к. были вспрыснуты подкожно морской свинке, которая осталась здорова» [173]. Зачем понадобилось делать проверку французской сыворотки после смерти писателя? Не потому ли, что 25 июня Левин приобщил к истории болезни письмо Бирюкова, записки Онг-Гвае-Свяна и служебную записку Боровской, сделав помету: «К истории болезни тов. М. Горького. Л. Левин. 1936. 25/VI». Не зря Горький так тепло отозвался о нем в предсмертных записях: «Замечат<ельно> симпатичен др. Левин» [174]. Ведь благодаря ему раскрылась тайна «умерщвления» писателя.
В записях Кошенкова постоянно фигурируют фамилии 17 врачей, которые лечили Горького. Среди них «кремлевский доктор» Л. Г. Левин, Г. Ф. Ланг, А. Д. Сперанский, Н. Е. Лебедев, М. П. Кончаловский, М. Ю. Белостоцкий и др. После 8 июня у постели больного появился Д. Д. Плетнев. Они представляли две разных медицинских школы: традиционную и новаторскую. К последней принадлежали сотрудники Института экспериментальной медицины (ВИЭМ), возглавляемого Л. Н. Федоровым. Противоречивые разговоры по дороге из Горок и в доме на Никитской, которые записывал комендант, свидетельствуют, что единства мнений у врачей не было. Они делились на тех, кто верил, что можно спасти пациента, и тех, кто постоянно твердил, что он обречен. Начиная с 14 июня врачи окончательно запутались в своих оценках, создавалось впечатление, что лечат вслепую. С 13 июня, когда состояние больного снова ухудшилось, консилиум (Л. Левин, Д. Плетнев, М. Кончаловский и Г. Ланг) созывался ежедневно. И хотя все эти доктора, как доказала авторитетная комиссия экспертов в 1984 года, абсолютно неповинны в смерти Горького, зловещая тень убийства была брошена на «врачей-отравителей» не только на процессе 1938 года. Даже Крючков после смерти писателя признался: «…если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы» [175].
Итак, это была тщательно разработанная имитация естественной смерти («смерть от болезни»), которую не раз применял «фармацевт» Ягода и его сообщники в 1930-х годах. В секретной лаборатории ОГПУ-НКВД хранились не только яды, но и вакцины разных болезней, в том числе детских, которые могли вызывать у взрослых «естественную» смерть. Тайна смерти Горького оставалась до конца ХХ века непроясненной, пока не появились новые документальные материалы из архивов Президента РФ и ФСБ. Ставшие известными сведения о деятельности оппозиции и антисталинских заговорах заставили по-новому взглянуть на последние годы жизни Горького. Комиссия по реабилитации незаконно репрессированных много лет спустя документально установила невиновность врачей, лечивших его, но не реабилитировала Ягоду и его помощников. Можно сказать, что возбудителем болезни писателя, по-видимому, была вакцина из лаборатории ОГПУ-НКВД. Не слишком опасная для молодых здоровых людей и даже детей, она была смертельна для изношенного старческого организма, разрушенного туберкулезным процессом.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
159
См. Судебный отчет по делу антисоветского право-троцкистского блока. М.: Юридич. изд-во НКЮ СССР, 1938.
160
Баранов В. Баронесса и Буревестник. М.: Вагриус, 2006.
161
Троцкий Л. Портреты революционеров. С. 101.
162
Берберова Н. Железная женщина (Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях). Нью-Йорк, 1981. С. 269.
163
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М: Согласие, 1997. С. 158.
164
Наст. изд. С. 245.
165
Там же. С. 271.
166
Там же. С. 262.
167
Там же. С. 202.
168
Там же. С. 193.
169
Архив А. М. Горького. МоГ-3—25—5.
170
Наст. изд. С. 283.
171
Там же. С.286–287.
172
Там же. С.125.
173
Там же. С. 99.
174
Там же. С. 177.
175
Там же. С.199..