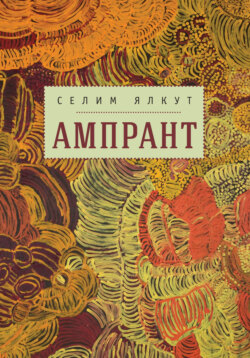Читать книгу Ампрант - Селим Ялкут - Страница 4
Женские проблемы
ОглавлениеАнанасов был мастью пиковый король, а жена его Валя – между червонной и бубновой дамами. Кожа у Вали была белая, как молоко, и легко краснела, тут она попадала в черву, но волосы – рыжеватые, скорее каштановые, определенно указывали на бубну. Валя была ровестницей Ананасова, слегка за сорок. Но кто станет отрицать, дата в женском паспорте, хоть и не любят ее оглашать (и вам не советуем), – дело второстепенное, можно сказать, пустяк. Валя была богата зрелой, уверенной в себе красотой, разве только чуть отяжелела в бедрах. Была она родом из Сибири, а там, по расхожим представлениям, женщины только и делают, что лепят пельмени и пляшут с оханьем и притопом под гармонику на пристанях могучих рек и перронах вдоль бесконечной железной дороги. Может, в Сибири это так, но Валя была человек тонкий и, несмотря на ровный, спокойный характер, знала нюансы настроения. Пусть начинала сибирячкой, а потом еще долго мыкалась по общежитиям, где была замечена будущим мужем. Ананасов и сейчас был хорош, а тогда – просто красавец. Вместе они составили неотразимую пару. И ухаживал Ананасов необычно, использовал некий опыт, которым с ним поделился знакомый ватерполист. Была в продаже замечательная колбаса, о которой слагали легенды. Колбаса звалась сырокопченая. Отправляясь на свидание, Ананасов покупал двести грамм этой колбасы и просил нарезать ее потоньше. Конечно, так было не принято – каждому нарезать. Но Ананасов был, как мы уже понимаем, не каждый, и отказать ему девушки за прилавком никак не могли. Виктор Андреевич являлся на свидание с промасленным пакетиком, и они грызли сырокопченую, перебивая вкус божественными поцелуями. Ах, молодость. Потом сырокопченая исчезла из свободной продажи, потому воспоминание осталось незамутненным скучной обыденщиной, которая непременно приходит своим чередом. Но и теперь, когда они бывали в приличных домах и, усаживаясь за стол, находили взглядом редкостную сырокопченую, Валя напременно настраивалась на романтический лад, и подсказывала мужу взглядом или прикосновением колена к колену – ты помнишь? И Ананасов так же молча сигнализировал в ответ: еще бы. Это был их тайный знак, священный, как знамя в красном уголке, к которому нет допуска никому.
Учреждение, где Валя работала, был главк. Туда сходились нити управления целой отрастью промышленности, так называемых, товаров группы Б. В самой литере нет ничего загадочного. Придумана она для удобства планирования народного хозяйства или, как принято говорить, экономической стратегии. Товары этой группы не имеют оборонительного или наступательного значения, но пользуются повседневным спросом у населения и стоят ему не только денег, но и нервов. В других странах, где этих товаров побольше, литера, как говорят, отсутствует, но у нас пока так.
Рабочий коллектив у Вали был по преимуществу женский. Сколько полезной информации проходит сквозь него за долгие служебные часы. Телефоны и адреса портних, парикмахеров, детских и женских врачей и мясников, рецепты различных блюд, фасоны выкроек, еще много чего… сколько, наконец, любовных тайн. С Валей советовались, с ней делились, потому что была она человеком надежным. А своих секретов у нее не было. Хотя (между нами) могли бы быть. Заместитель министра – назовем его конфиденциально Н.Н. – брал Валю с собой в командировку и приглашал вечером к себе в номер для совместного реферирования. Как это можно понять? Были охочие до такого реферирования, хотя бы с целью укрепления производственного статуса, и ничуть бы не пожалели, пусть, по слухам, самого Н.Н. давно уже молодцом не назовешь. А Валя, когда шла реферировать, одевалась строже, чем в церковь, и даже подругу норовила прихватить, хоть Н.Н. при желании мог пригласить подругу и сам.
Сырокопченая крепко хранила ананасовскую семью, пока в главке не появился Генрих Матвеевич Пряхин, заброшенный к нам прямо из заграничного далека. Там он скитался много лет, пока не пресытился, устал и не запросился домой. Искушенный общением с той самой заграницей, где нашего земляка можно легко отпугнуть обилием социальных контрастов, запросто выходивший с твердой валютой куда-нибудь на Пикадилли или Манхеттен, Генрих Матвеевич вернулся в родное отечество. И тут же стал центром учрежденческого европеизма, который, при всем отвращении к западным порядкам, не отрицал все огульно, а отдавал должное отдельным достижениям и успехам, хотя бы в области производства пресловутых товаров группы Б. Ах, как чудесно умел Генрих Матвеевич носить заграничное, как небрежно оставлял, где попало, замшевые и кожаные пиджаки, забывал в гардеробе, заставляя вахтера создавать специальный пост для охраны. И как изящно сочетал это заграничное с нашим отечественным, все с теми же пресловутыми товарами группы Б. Личным примером разрешал вековечный спор славянофилов и западников именно в пользу своего, доморощенного. И носил это доморощенное с небрежным шиком, как бы призывая, не гнаться за суетным, а прислушаться к сокровенному голосу, который подбрасывал его среди ночи на мягких заграничных постелях и гнал, гнал к окну, где он стоял в одном дезабилье, не боясь простуды от работающего кондиционера, и устремлял тоскливый взгляд на восток.
Такое случалось с Генрихом Матвеевичем постоянно, разве только в Японии он смотрел среди ночи на запад, чуя близкую родину инстинктом некормленного зверя. Как безнадежно и уныло тянулось время там, у них, зато каким подарком, какой радостью и вознаграждением скитальца были встречи с нашими таможенниками, которые научились распознавать Генриха Матвеевича за время частых поездок и возвращений, а, узнав, с пониманием относились к запросам его близких, ради которых он и таскал ненужные для себя и обременительные тяжести.
Пусть Генрих Матвеевич знал языки, никогда не садился первым в присутствии дам и вообще вкусил плоды поверхностного западного просвещения. Будем и мы снисходительны. Но именно он привил институтским интеллектуалам здоровый скепсис перед чванливым просперити, умерил нездоровый интерес к закрытым просмотрам в Доме кино и походам в чековую березу. Как-то неловко было при Генрихе Матвеевиче распинаться на эти темы. Не такой это был человек.
Уже несколько лет как вернулся Генрих Матвеевич и пришел в главк, но до сих пор удерживал повышенный тонус, играл им, как бицепсом, напрягал в интересах дела. И принес немало пользы, именно, на общественных началах. Например, пожертвовал собственный костюм из чудесного английского твида, известный в заморских краях под брендом сельский джентльмен, для разработки отечественных моделей верхней одежды для аграрного актива. Многие рассуждают о жертвах во имя общего дела, но, согласитесь, на костюм не каждый решится. А Генрих Матвеевич решился, бросил, так сказать, на алтарь. Естественно, вокруг подвижника развернулось общественное движение, хоть в строгих рамках, но с примесью некоторого вольтерьянства, снисходительно не замечаемого высоким начальством. У нас всегда так. Секция лаун-тенниса. Просмотр тематических слайдов с рассказами о разных городах, в которых удалось побывать Генриху Матвеевичу за годы нелегкой службы. И не простые доклады, а с содокладчиками, которые знали о тех местах пока только понаслышке, но с упоением произносили, осваивая прононс, Сакре-Кер, Монпарнас и многое другое. Особенно сразил Генрих Матвеевич фотографиями, на которых был заснят во время прогулок по Парижу на пару с известным поэтом, флагманом отечественного свободомыслия. Поэт и Генрих Матвеевич снимали друг друга по очереди на фоне Эйфелевой башни и в Люксембургсом саду, а потом какой-то обыватель (там их тоже хватает, не только у нас) запечатлел Генриха Матвеевича с поэтом вдвоем, в обнимку. Этот снимок придал всему повествованию (были и другие) документальный характер и в недалеком будущем делал личность самого Генриха Матвеевича объектом мемуарописания и литературоведческого изучения, живым свидетелем большого лирического цикла, начатого поэтом все там же в Париже и проникнутого понятными до слез ностальгическими настроениями. Угадано было точно. Сам Генрих Матвеевич выглядел на снимках беззаботным, в летней рубашке с широко распахнутым воротом, а поэт, наоборот, вид имел нездоровый, измученный капризной музой, и застегнут был туго, под самый подбородок, оберегая не только плоть, но сам дух от тлетворных флюидов, опасных для русского человека, как вирус кори для инопланетянина.
Конечно, Генрих Матвеевич угодил в поле зрения местных дам. Причем не просто угодил, а сразу и решительно затмил всех институтских бонвиванов. Не зря украшал Генрих Матвеевич президиум в честь Международного дня 8 марта. Не напрасно освежал его монументальной фигурой, безукоризненной выправкой, крупной породистой головой, которую держал набекрень, чуть поводя подбородком и скашивая глаза на лацканы пиджака, что придавало ему умилительное сходство с умным породистым псом, осматривающим экстерьер в поисках блох. С ума сойти! И было от кого! Шикарный мужик – так хором оценили Генриха Матвеевича местные красавицы. С грустным, однако, вздохом. Потому что сердце Генриха Матвеевича было зашторено. По крайней мере, пока.
Причина была. Генрих Матвеевич направил свой взыскующий взгляд на Валю Ананасову. Но, направив, вел себя сверх всяких похвал. Как говорится, красиво вел. Не пытался штурмовать с ходу преграды, выстроенные растревоженной Валиной добродетелью, подминать их под себя, переползая, как через колючую проволоку поверх наброшенной шинели с хриплым криком Даешь! Нет, не так вел себя Генрих Матвеевич, а наоборот. Совсем наоборот. Заботливо готовил почву для будущих цветников и виноградников, разрыхлял, возделывал, засевал, не торопясь, но и не прекращая многообещающие труды. Не жалел усилий в ожидании грядущего сбора плодов, амброзии и нектара. Ах, как тонко и изящно он преодолевал Валино смятение, как бы умиляясь вместе с ней ее метаниям и растерянности. И, пардон, нелепости. Как будто белоснежным платочком стряхивал пыль уныния и скуки, под которой нет и не будет ничего стоящего. И уже сегодня можно предвидеть разочарование и досаду по поводу бессмысленно утраченных лет, горечь и ощущение во рту прокисшего холодного супа. Позвольте, как бы недоумевая (а может быть, действительно недоумевая) мысленно восклицал Генрих Матвеевич, а его красноречивый взгляд доводил это восклицание до Валиного сведения. Позвольте, как можно! Как? Губить и обкрадывать себя в наш век эмансипации и свободы. Как можно так жить? Не где-нибудь, а в Европе. Жить по законам домостроя, принося ненужные и даже вредные для здоровья жертвы. Как можно?!
Да, это были сильные аргументы. Он отбрасывал Валины сомнения легко и изыщно, как фокусник. Не торопясь, переходил к следующим, все более сильным доводам. С пониманием относился к пароксизмам женской добродетели. И заодно прояснял их безосновательность, которую он будет рад преодолеть совместными усилиями. Он довел до ее сведения, что их будущий роман (так это ему виделось) – не роковая страсть, не зловещий треугольник, сродни бермудскому, в котором бесследно исчезают здоровье и репутации, а по черной воде плавают обломки успешных карьер. Не надрывное выяснение отношений до самоистязания и угрозы самоубийства. Не шантаж, наконец, просроченной беременностью. Нет, и еще раз нет! Всего лишь логичное и приятное завершение легкого (обязательно, легкого!) ужина, изящный набор телодвижений, сила и продолжительность которых определяются возрастом и здоровьем, переключение эмоций, сброс пара или (одно из перспективных объяснений) вид совместной гимнастики для разнополых партнеров, аэробика под негромкий джаз или классическую музыку в зависимости от интеллектуальных запросов, темперамента и состояния нервной системы. В общем, что-то такое…
Как это было назвать? Ухаживанием, домогательством, совращением? В том и дело, что сильное эстетическое чувство Генриха Матвеевича в смешении с его же ответственностью за дело и достоинством патриота и гражданина, выводило весь процесс за определенные рамки, меняло привычные представления. Называйте, как хотите, но важен результат: Валя стала постепенно привыкать к новому состоянию. Сначала, что Генрих Матвеевич ее замечает и выделяет особо, а затем, пережив это волнующее ощущение, что она ему нравится. Да, да. Именно так. Открытие не слабее архимедовского, каждый из нас, даже не будучи древним греком, способен пережить внезапный восторг. Ах, как головокружительно и чудесно, ощутить на себе внимание, почувствовать интерес такого мужчины. Несколько неспешных, баюкающих разговоров за чашкой кофе в уютных обитых зеленым плюшем креслах модного кафе… вы помните, В старой Вене, на Пратере?… Вертинский пел, только свет там не такой яркий… Прогулки на речном трамвае… Именно тогда Валя стала ощущать вежливое, дружеское участие его руки, а потом ее сознательную задержку в своей. Не требовательную, нет, не просящую, а пока только намеком, подсказкой в направлении их возможных отношений. Соглашайтесь, звал он, я жду. И чуть позже, когда она почувствовала тепло его дыхания на своих пальцах, на обручальном кольце, которое она впервые ощутила с некоторой досадой, но которое он как бы не заметил, перевернув руку тактично, мягко и деликатно уведя губы ближе к запястью. И когда он прикоснулся к ее руке влюбленно, страстно и глянул снизу вверх, открыв раненую душу, она подумала с какой-то незнакомой, невозможной по прежней жизни сладкой болью: – Да, это он. Я готова.
И все же прошло немало времени, и дьявол был посрамлен в последний момент. Об этом стоит рассказать особо. Все было решено, и Валя сказала мужу, что может неожиданно уехать прямо с работы в однодневную командировку. Такое бывало и прежде, и не вызвало у Ананасова подозрений. Ему было о чем думать. Валя тайком уложила дневную и вечернюю косметику, туалет для вечера и песочного цвета, расшитый драконами пеньюар, который купила по счастью во львовской комиссионке и справедливо подумала, что Ананасов не сможет его оценить. Так оно и вышло, но наши желания и мечты сбываются самым таинственным образом, не сейчас и не сразу, а где-то далеко впереди, в будущем, до которого нужно добраться.
Закончился производственный семинар, на котором присутствовал сам министр. Был одобрен доклад Генриха Матвеевича и успешно проведена демонстрация твидового мужчины. Сопереживая успеху своего избранника, Валя была удивительно хороша. С честью выдержала очное соревнование с некоторыми другими участницами семинара, бесстыдно имевшими виды на ее Генриха. Было договорено, после заседания они отправятся отдохнуть, провести время в уютном коттедже, доступном для Генриха Матвеевича. Он предложил Вале эту прогулку накануне, как бы вскользь, мимоходом, с корректностью человека, уважающего чужие планы и не предполагающего их ломать. И с легким налетом безразличия и самоиронии – защитной реакцией, если бы выношенный план был отвергнут, а самолюбию нанесен урон. Ох, уж эти мужчины.
В то утро Валя с особенным чувством чмокнула Ананасова, что вызвало у него неосознанное беспокойство, будто сигнал тревоги, предупреждающий животных об опасности лесного пожара – инстинкт, утраченный цивилизованными людьми. Чмокнула в лоб, то есть в то самое место, на котором в грядущую ночь должны были прорасти символические рога, итог ее новых отношений с Генрихом Матвеевичем, или, если смотреть шире, переход на новую жизненную орбиту освобождения от бремени тягостных предрассудков. И, как бы подводя этим поцелуем черту под длительным периодом патриархата и скучной моногамии, Валя с легким сердцем покинула квартиру со спортивной сумкой, дополнительно ее молодящей и содержащей в себе разные соблазнительные и дурманящие притирания, умащивания и благовония, щетки для волос, кисточки для ресниц, легкие, струящиеся до пола одежды, которые должны были придать ритуалу соблазнения некое сходство с открытием памятника, правда, без излишнего освещения, зрителей и аплодисментов. Все было подготовлено и как бы застыло в трепетном ожидании сигнала.
И тут Генрих Матвеевич – этот безукоризненый европеец и джентельмен обидно сплоховал. Впрочем, может быть это слово здесь неуместно. Он не нахамил, не переволновался, что связывают в таких случаях со словом сплоховал. Наоборот, он вел себя выше всяких похвал, о чем еще будет сказано. Но не уследил за нюансами порывистого женского настроения, не проявил тонкости и, вернее всего, просто перестарался. Теперь пойди и объясни. То, что он усадил Валю в ведомственную машину, пусть, не из главка (туда бы Валя при нынешних обстоятельствах ни за что бы не села), а вызванную по заказу из специального гаража (!), практически не повлияло на ее романтическое настроение, разве только пустило легкое облачко по незамутненному горизонту, окрашенному в розовый цвет элегической грусти, сродни декадентскому романсу. Легкое облачко поплыло. Действительно, зачем было впутывать в их отношения казенного человека? Пусть даже непроницаемого, пусть даже бесстрастного, не предполагающего даже намека, фамильярных подмигиваний или ухмылок, даже просто реакции живого человека, но все же именно живого в силу возможности все видеть, слышать и понимать. Теперь ясно, нужно было обойтись такси. Было бы дороже и, казалось, попросту глупо, если имеешь соответствующие возможности. Ну, и пусть глупо. Не ищите логику там, где встречаются двое и еще только ищут путь друг к другу, слушая сердце, а не разум. Зато не было бы в зреющих отношениях привкуса заурядного приключения, романчика по случаю, банальной интрижки. Чепуха? Именно так говорила себе Валя, усаживаясь в казенную машину. Факт тот, что поехали. Валя расположилась, устроилась удобно на заднем сиденьи и, закрыв глаза, отдалась во власть новых ощущений. А именно руки Генриха Матвеевича, его прикосновения к колену и даже чуть выше, но только чуть-чуть, чтобы шофер, который мог наблюдать за этими пассами через свое зеркало, не оценил их иначе, чем дружеское прикосновение. И тут Генрих Матвеевич вновь пустил петуха. Пока убаюканная движением Валя совсем было задремала (что ни говори, а день был не из легких), Генрих Матвеевич стал негромко читать стихи. Причем в конце каждого называл автора, не указывая, правда, названия самого стихотворения. А объявлял: Лермонтов, Есенин, Рождественский Роберт, что предполагало, по-видимому, существование еще одного Рождественского, которого Генрих Матвеевич наизусть не знал. Поэзия была, в основном, лирическая, томительно любовная, но промелькнуло и несколько гражданских стихов, в частности, того же Рождественского, с отчетливой ностальгической нотой, со слезой по родному краю, что было вполне объяснимо применительно к подвижнической судьбе самого Генриха Матвеевича. Читал он долго и выразительно, выделяя интонацией сильные места и приглашая свою спутницу к сопереживанию нажимом на коленку. Но опять же мешал водитель. Тот вел машину и знал свое место. Но не знакомая со служебным сервисом, который вполне понятно и четко отделяет водителя от пассажиров, Валя испытала ужасную неловкость. Сначала за Генриха Матвеевича, потом за себя, а потом даже за водителя. Казалось бы, совсем нелепо, но именно так. Хоть это была всего лишь деталь, легкий штришок к дальнейшему сюжету. А, в общем, они доехали вполне благополучно, и шофер улыбнулся Вале на прощание. И совсем не казенно, а по дружески. Впрочем, тут полагалось говорить не вульгарное – шофер, а именно – водитель. Так это должно выглядеть, при подлинной демократии: просто у Генриха Матвеевича с Валей свои дела, а у водителя – свои.
А пока прибыли и расположились. Лежали на пляжике, и разомлевшая Валя наблюдала, как Генрих Матвеевич, чуть надавливая, изучает небольшой прыщик подмышкой слева. Даже царапнул красивым ногтем розовую пуговку, потом, приставив руку к нездоровому месту, проверил: трет или не трет, и даже убедившись, что не трет, удерживал руку чуть на отлете. Просто на всякий случай, пока они не вернулись в дом, и Генрих Матвеевич не прижег прыщик одеколоном.
Наконец, уселись ужинать. Но прежде Генрих Матвеевич поднялся на второй этаж и вернулся к столу в легких брюках цвета беж и в белой трикотажной майке с воротником. На левой груди было выбито не заветное для многих название Адидас, нет, а изображена похожая на улитку эмблема самого Пьера Кордена – магический знак приобщения к самой изысканной и утонченной моде, которая доступна или даже заслужена (так точнее) у нас очень и очень немногими. И итальянские кроссовки украшали ноги Генриха Матвеевича, причем левая, как он посетовал, еще должна была разноситься, а пока чуть жала, создавая некоторый дискомфорт, который Генрих Матвеевич должен был стойко терпеть. Как истинный теннисист, он просто не мог позволить, даже мысленно не мог допустить ношения другой, пусть даже более удобной для примитивного взгляда обуви. Естественно, те, кто побывал на месте Генриха Матвеевича, не могут его не понять. А другим, как, в частности, Вале, предстоит не раз убеждаться по мере приобщения. Главное – стиль, и еще раз – стиль.
Валя тоже переоделась, вернее, натянула на высохший купальник некий наряд, пусть не столь изысканный, как у Генриха Матвеевича, но выгодно оттеняющий немалые достоинства, в первую очередь, глубоко декольтированную грудь, сохранившую молодую форму, не квелую, не оплывшую, а теперь слегка разрумяненную пляжным солнцем. Поэтому, готовясь к ужину, Валя дополнительно протерла облученные места парфюмерией, а теперь скашивала глаза и обдувала сквозь трогательно сложенные губы. И Генрих Матвеевич раз за разом проявлял интерес и норовил проверить местную температуру тылом ладони. Должен же он, как хозяин дома, нести ответственность за свою гостью? В самом благородном смысле.
Во всем этом была не застенчивость и не жеманство, а именно пикантность, интрига волнующей игры, эманация некоей энергии, которая, как утверждают теоретики, доступна чувственному опыту и называется совмещением биополей. И очень кстати, что Генрих Матвеевич заговорил о парижанках. О некоем головокружительном, неповторимом, невыразимом на нашем языке эспри. Действительно, хоть велик и могуч наш отечественный язык, а выразить – не получается, чтобы связать в единое понятие: раскованность, стиль, умение нравиться и превратить знакомство, даже обольщение в изящную, легкую игру. Нет такого слова в нашем языке, и, видно, не случайно. Массовое одновременное присутствие таких черт в народе (а женщины – его лучшая часть!) и создают эспри, а вместе с ним неповторимый изысканный колорит, присущий лишь утонченным, даже упадническим культурам. Хотите пример? Как же это объяснить? Ага, вот. Когда можешь подойти на улице к понравившейся женщине и получить ее согласие на знакомство или даже отказ (для примера отказ даже лучше), но отказ вежливый, корректный, с извиняющейся улыбкой, без крика и риска нарваться на прямое оскорбление или хамство. Разные там: козел, пошел ты… и прочие вульгаризмы. Вы понимаете? Об этом и речь. Не следует, конечно, рассматривать этот пример примитивно, в нем скрыто гораздо более того, чем сказано. Здесь есть аромат, предчувствие. Пусть трудноуловимое, но есть. Качественно более высоких, сложных и одновременно более простых в своей утонченности отношений между мужчиной и женщиной. Ощущение их, как глотка хорошего коньяка, удержанного во рту и будоражащего кровь, а не заглоченного залпом в желудок, с вытаращенными глазами, над горой сваленной в тарелку закуски, чтобы, не дай бог, сразу не окосеть.
– В наших женщинах, – вещал Генрих Матвеевич, – это замечательное свойство, эспри встречается крайне редко, оно уникально и, на удивление, неразвито. Увы, это так. И трудно ждать быстрого прогресса среди озабоченных и загнанных бытом современниц. Потому замечательно, что сильные и энергичные признаки этого свойства Генрих Матвеевич, как опытный селекционер, обнаружил именно в Вале. И оценивает свое открытие вполне объективно, без понятного желания сделать комплимент, ибо сказанное куда весомее и выше.
Кропя елеем, Генрих Матвеевич разжег камин (был и камин), и они сели за стол. При свечах. Причем Генрих Матвеевич не преминул еще раз проявить заботу о Валиной груди. В полумраке цвет раздраженной кожи стал неразличим, а личное участие Генриха Матвеевича могло понадобиться. Свечи и камин освещали комнату, придавая и обстановке, и атмосфере застолья некую торжественность, будто то, что ждало их после ужина, было вызвано не влюбленностью и Валиным благодарным желанием, а особым ритуалом посвящения, сродни клятве или жертвоприношению. От странного ощущения этих минут, застывшей метафоры, неспособной развоплотиться в конкретный образ времени и места, у Вали стало ломить шею, а само эспри, так счастливо обнаруженное Генрихом Матвеевичем среди ее многочисленных достоинств, стало казаться досадным недоразумением. Будто это не она еще недавно была счастлива этим открытием. А Генрих Матвеевич, не замечая, гнул свое. Включил проигрыватель и значительно, как объявлял в машине фамилии поэтов, провозгласил: Скарлатти. Выждав первые такты, и как бы расставляя пальцем мелодические акценты, он достал начатую ими бутылку коньяка и предложил: – Еще Камю? По рюмке они выпили перед пляжем и самое время было пропустить по второй. Причем лучше водки, да, именно, водки, так как аппетит у Вали разыгрался, а для таких случаев водка была проверенней и надежней. Но она уступила, махнула рукой, чтобы наливал, а сама стала рассматривать стол, выбирая закуску. И взгляд ее ударил в сырокопченую. Будто током.
Ох, эти возможности в потреблении дефицита. Пусть даже официально и по ранжиру. Раз в месяц, раз в квартал. Кому по килограмму, кому больше, прямо на дом и в холодильник. Какую глупую шутку сыграла сырокопченая в тот вечер с Генрихом Матвеевичем. Как быстро и жестоко разрушила она тщательно возводимое здание. Ведь достроить оставалось всего ничего. Разве только фигурально положить последнюю черепицу и освятить сдачу готового объекта бутылкой шампанского. И сама бутылка была припасена для такого случая. Не какого-нибудь, а именно Брют, которое не просто пьют, а скорее приобщают к будущей изысканной жизни. Как и духами Диорелла, которые Генрих Матвеевич, не сомневаясь, пустил бы в ход. Правда, не сразу, не сегодня, а попозже, когда Валино место в его жизни будет определено более точно и конкретно. Потому что именно Диорелла, а не, например, Диорама или другие парфюмерные изделия знаменитого Диора, и была его любимым запахом, или, если хотите, ароматом. Но сейчас, пока Генрих Матвеевич токовал о преимуществах итальянской мужской моды над французской – да, да, это только кажется парадоксом, и Валя сама сможет в этом убедиться, также как и в том, что в женской моде французам действительно нет равных, и в этом тоже нужно быть объективным, – пока плавно лился этот разговор, Валя медленно жевала сырокопченую и вспоминала вкус молодецких ананасовских поцелуев.
Не удивительно, что в тот вечер у них ничего не вышло. Все было спущено на тормозах, хоть вызвало недоумение и, возможно, даже досаду Генриха Матвеевича. В двенадцать Валя уже была дома, где застала сморенного газетой Ананасова. Тот спал пока на диване, не раздеваясь, в шерстяном спортивном костюме местной фабрики Спартак, купленном для будущих спортивных пробежек. Как раз в эти дни Ананасов стал подозрительно следить за фигурой, но еще не мог преодолеть лени и сейчас эксплуатировал костюм не по назначению. И это летом! Было с кем сравнить. Валя снова чмокнула мужа в лоб, испытывая, как ни странно, именно сейчас, угрызения совести, которых не было утром.
И все же это была лишь последняя судорога измученной соблазнами добродетели. Жизнь берет свое, и нельзя обминуть то, чему положено случиться. Конечно, ночной побег Вали из коттеджа нарушил бережно созидаемую гармонию и произвел ненужный, болезненный надрыв. Теперь предстояло его лечить и зализывать, чтобы вернуться на брошенные рубежи. Обо всем этом Валя думала на следующее утро, лежа в постели рядом с посапывающим мужем.
Ясно, Генрих Матвеевич был не из тех мужчин, которыми можно бросаться. Если он сам предложил свое чувство, бросил, так сказать, к ногам, пренебрегать этим было никак нельзя. Можно, ведь, и пробросаться. Многие женщины Валю бы не поняли. Не поняли, и все тут. Даже со ссылкой на сырокопченую и другие воспоминания молодости. Ну и что? Пожали бы плечиками и справедливо заметили, молодость прошла, а воспоминания – всего лишь сорванный цветок, пусть, красивый, но когда? а теперь безнадежно увядший, утративший аромат. Никто не предлагает его выбрасывать. Наоборот, следует засушить и сберечь, чтобы на склоне лет рассматривать собранный гербарий. Но сейчас… Извините, причем здесь реальная жизнь? Время для других цветов. И, конечно, можно понять Генриха Матвеевича. Он должен был почувствовать себя задетым, хоть, пропитанный джентельменством, этого никак не показал. Он не дрогнул, не проскрипел зубами, хоть обиду можно представить. Долго он приглядывался к Вале, изучал характер, привычки, вкусы, примерял, как бы, на себя. Может быть, даже колебался, да-нет, нет-да, пока, наконец, решился. И после этого сколько было проявлено такта, чуткости, внимания к переменчивой женской натуре. И, попутно заметим, не какую-нибудь интеллектуалку или консерваторку выбрал он для себя, в женщину, хоть красивую, видную, но простую, сибирскую, потершуюся, конечно, в городе, но ведь, простите, где? – не среди бомонда или актива, а, все больше, в очередях и городском транспорте. И он это видел, понимал, но закрыл глаза. Значит, и дальше предполагал трудиться, поднимать до своего уровня, прививать манеры. Все было обдумано, взвешено. И вот, когда подготовка была закончена, когда было дано понять, и получено согласие, когда оставалось сыграть последний акт и опустить альковный занавес, когда все задуманное должно было произойти буквально вот-вот, и уже, собственно, происходило, случилось нечто непонятное, будто что-то лопнуло, треснуло, среди романтического сумрака ударил тупой прожектор, и Генрих Матвеевич увидел, клетка пуста, приманка съедена, а добыча ушла. Или, может, (того хуже) не ушла, а таится где-то рядом, посмеивается над незадачливым охотником, чтобы и дальше водить его за нос и лакомиться на дармовщинку. Так или нет? Именно так.
Вполне можно вообразить себя на месте Генриха Матвеевича после злополучного свидания. Тем более он был практик, а для практика нет ничего хуже, чем выжидать и таиться в бездействии. И, тем не менее, Генрих Матвеевич решил именно выжидать, хоть вполне мог оскорбиться и напустить на себя мрачный, байронический вид. Но не оскорбился, не напустил и оказался прав. Ясно, что Генрих Матвеевич был Вале небезразличен. Ведь она решилась на эту поездку с вполне определенной мыслью: а почему бы и нет? Значит, многое для себя представила, заглянула в грядущее, хоть, конечно, не могла предвидеть его в подробностях. Например, что Генрих Матвеевич уже припас для нее свою любимую Диореллу. И пусть сдерживающие мотивы сработали, оказались сильнее, но ведь Валя не была какой-то вертихвосткой, которую Генрих Матвеевич вниманием бы не удостоил. Значит, случай вполне можно было представить, как случайность, досадный сбой, подготовленный – так бывает – отдельными накладками, вроде вызова казенной машины и чтения того же Лермонтова, который в другом случае оказался бы более кстати. Все это похоже на серию подземных толчков, каждый из которых ощутим, но не опасен, и вспоминается потом, как приключение. Досадные нелепости часто присутствуют в начале больших дел и выглядят полной чепухой, когда остаются позади. Легко можно вообразить, что при другом обороте и Валя, и Генрих Матвеевич, отдыхая в интимной обстановке и обсудив под общим углом производственные проблемы, посмеялись бы среди прочего и над машиной, и над Лермонтовым, и даже над воспоминаниями о сырокопченой, которые, сумей их Валя преодолеть, утратили бы силу фетиша и оказались бы именно тем, чем положено, атрибутами старого обряда, утратившими магический смысл. Пыльным экспонатом. Инвентарным номером в архиве памяти. Именно так.
Но преодолеть этот рубеж Валя не смогла. И теперь вспоминала, как нелепо вела себя накануне. И размышляла, как быть впредь. Теперь, когда все утрачено. А тут еще Ананасов проснулся и, глядя в напряженное лицо жены, поинтересовался: – Что с тобой, мамочка?
Больнее нельзя вообразить. Валя едва не взорвалась на дурацкое мамочка. Повернулась к мужу спиной, и дала волю слезам. Немного, но и этого хватило.
Спустя месяц между ними случилось, что должно было случиться в тот злополучный вечер. Теперь пришлось пробираться к сердцу Генриха Матвеевича ледоколом. Он прохладно встретил ее усилия. Зато сама Валя знала точно, чего хочет, и была настроена решительно. Генрих Матвеевич покапризничал и сдался. Она приняла его согласие с благодарностью, как награду, которую еще предстоит оправдать. Это сразу определило лидерство Генриха Матвеевича. Отношения стали выглядеть более значительно, солидно, утратили ненужную игривость, характерную для ъенщин, стремящихся выдать легкомыслие поведения за легкомысленность возраста. Не побоимся сказать, отношения приобрели некоторый государственный масштаб, Генрих Матвеевич откровенно делился с Валей производственными планами, дерзкими начинаниями, которые после грядущей победы над бюрократизмом, после всех согласований и подписей, после освоения и внедрения, определили бы небывалый расцвет их несколько отсталой области товаров группы Б, а самого Генриха Матвеевича вознесли бы на должную высоту. И, постепенно проникаясь величием этих замыслов, Валя испытала незнакомое чувство собственной значимости. Отнюдь, не как любовница – нет, и еще раз нет! Пошло и оскорбительно! Соратница, именно соратница – вот нужное слово, – допущенная в штаб борьбы, для служения важному делу, и, лишь отчасти, для утоления чисто человеческих желаний, на которые они имели право, как всякие живые люди.
Дома у Ананасовых все шло как прежде, дисциплину и организованность Генрих Матвеевич распространил не только на личные отношения, но и на климат (так он это называл) в своей и Валиной семьях. Никто не должен пострадать. Озабоченная собственными страстями, Валя прозевала начало ананасовского романа. Но однажды она достала из почтового ящика письмо. Причем поразило Валю, не сразу (сначала она не обратила внимания), а потом, когда она ознакомилась с содержанием, письмо было без обратного адреса (странно, если бы было наоборот), но и без почтового штампа. Значит, было вброшено неизвестным автором прямо в почтовую щель. Подлость гораздо более расчетлива, чем считают порядочные люди. Ананасов был сейчас в командировке и не мог перехватить анонимку. В той самой злосчастной командировке, из-за которой Виктор Андреевич не уследил за судьбой отчета. Само письмо было, как водится, отпечатано и содержало полезную информацию. Внимание! Ваш муж постыдно сожительствует с подчиненной по работе Еленой Шварц! Привываем принять меры!
Каково? Валя прочла анонимку тут же у ящика и даже выбежала на улицу, чтобы настигнуть отправителя. Но, конечно, никого не настигла. Поднялась в квартиру. В глубокой тоске уселась на кухне. Даже плащ не сняла. Стала глядеть в окно. Осмотрела, как чужие, свои руки, услышала собственное сердце, попыталась что-то сообразить, не сообразила, и громко разрыдалась.
Если бы история ананасовского романа не пришлась на ее собственную измену, не стала ее отражением, как похожи друг на друга все подобные истории, если бы этого не было, Валя бы отнеслась к подобной новости, как и следует отнестись. А именно, как к стихийному бедствию. Ибо, что это такое, как не стихия? Разве последствия ее не катастрофичны, не бедственны для сложившейся годами прочной конструкции? Сейчас не думают о причинах, не стремятся сразу покарать виноватых (время для этого еще придет), не пытаются даже осознать масштабы катастрофы, а безоглядно рвутся спасать, что еще можно спасти, как бросается хозяйка во двор, спасать от ненастья вывешенное для просушки белье. Вот когда буря уляжется и прояснятся масштабы бедствия, тогда можно повздыхать о пережитом, оглядеть руины былого благоденствия, найти слова, чтобы преодолеть боль, и начать жить дальше.
Пока Ананасов был в командировке, Валя привыкала к полученному известию. Она поверила сразу. Сильно засело в ней ощущение собственной вины, чтобы подтвердиться теперь: вот она, расплата. Тревога и растерянность жгли. Как быть? Валя, как всегда за последний год, поделилась с Генрихом Матвеевичем.
Тот повертел анонимку в руках, закурил, красиво пустил дым. Вообще, Генриху Матвеевичу красиво давались жесты. Помолчал, он всегда значительно выдерживал паузу.
– Что собираешься делать?
– Не знаю.
– Ты его ревнуешь?
Валя скорбно кивнула. Именно так. Мысль об измене мужа не отпускала, как больной зуб.
– Понимаю. – Посочувствовал Генрих Матвеевич. – Трудно. Но ничего сейчас делать не нужно. Его ведь за границу готовят. Начнется скандал, все рухнет. И что тогда? Нет, пусть едет. – Генрих Матвеевич помолчал, прислушался к чему-то своему и решительно затянул французский галстук. Будто поставил в конце восклицательный знак, только вниз головой.