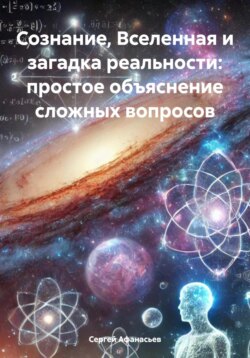Читать книгу Сознание, Вселенная и загадка реальности: простое объяснение сложных вопросов - Сергей Афанасьев - Страница 4
ГЛАВА 1. Введение. Почему сознание это загадка.
Исторический обзор: от мифологии к нейробиологии
ОглавлениеМифология древности
Если мы посмотрим на самые ранние памятники письменности, мифологии разных народов, то увидим, что люди всегда пытались объяснить «дух жизни» – нечто, что делает нас живыми и осознающими. У египтян была идея о «Ка» – жизненной силе; у греков – «психе» (душа), у китайцев – «ци». Во многих традиционных культурах объяснение заключалось в присутствии некой божественной искры или «дыхания жизни».
К размышлению:
Представьте, что вы живёте в эпоху, когда нет ни психологии, ни нейронаук, ни точных приборов. Как бы вы объясняли то, что люди порой видят сны, сны бывают пророческими, и откуда приходят эти образы?
Уже тогда древние мыслители замечали различие между миром «там, снаружи» и миром «здесь, внутри меня». Однако научные инструменты появились гораздо позже.
Античная философия
В Античности появляются первые рациональные попытки разобраться в природе сознания. Платон предлагал идею о том, что наше «настоящее» знание – это припоминание идеальных форм, а наш материальный мир – всего лишь «тень» истинной реальности. Для него сознание или душа были ближе к миру идей, чем к физическому миру.
Аристотель, наоборот, уделял больше внимания наблюдению, «эмпирическому» подходу. Он полагал, что душа – это некое «энтелехия» (совершенствование) живого тела, дающее ему форму и функции. Но всё равно «сознание» оставалось довольно туманным понятием.
Средние века и дуализм Декарта
В Средние века богословие возвысилось над философскими спорами о природе души. Но в XVII веке Рене Декарт сформировал классический дуализм: есть материальная субстанция (тело) и нематериальная (душа). Он искал точку соприкосновения между ними – famously, шишковидная железа (эпифиз) в мозге. Мы знаем, что эта идея сейчас звучит наивно, но она дала толчок к тому, чтобы искать конкретный орган, где «встречаются» физическое и психическое.
Отсюда выросли более поздние философские диспуты: если душа/сознание – это отдельная субстанция, то как она взаимодействует с миром? Если сознание всё-таки «выросло» из материи, то как именно химия переходит в субъективный опыт? Вопрос пока открыт.
XIX–XX века: психология, физиология и рождение нейронауки
В XIX веке возникают эмпирические исследования психики (Вильгельм Вундт, Уильям Джеймс), появляется психофизика (Густав Фехнер). Учёные впервые начинают количественно измерять ощущения и анализировать закономерности восприятия.
В XX веке расцветают нейробиология, психоанализ, гештальт-психология, поведенческие школы. Обнаруживают, что мозг состоит из нейронов (Сантьяго Рамон-и-Кахаль), эти нейроны передают сигналы друг другу. Появляется гипотеза: «Сознание – результат взаимодействия нейронов». Но как эти взаимодействия дают “Я” и «цвета ощущений»? Остается непонятным.
К размышлению:
Подумайте, насколько грандиозен путь от каменных орудий до изучения нейронных связей под микроскопом. Разве это не вселяет ощущение, что нам многое доступно? И в то же время, сознание по-прежнему остаётся неразгаданным чудом.
Современная эпоха: «трудная проблема сознания» и мультидисциплинарный подход
Сегодня мы имеем целый спектр дисциплин: нейрофизиология, когнитивная наука, компьютерное моделирование, философия ума. Исследователи пытаются «соединить точки» между физикой мозга и субъективными переживаниями.
Дэвид Чалмерс ввёл термин Hard Problem of Consciousness (трудная проблема сознания). Она отличается от «лёгких проблем» (как мозг различает объекты, как хранит память?). «Трудная проблема» сводится к вопросу: «Почему вообще существует субъективный опыт?» Можно представить робота, выполняющего все те же функции, но без «внутренней жизни». Зачем природе такое «дополнение»?
Это остаётся главной загадкой науки и философии. На сегодняшний день нет единой согласованной теории сознания, хотя есть множество многообещающих концепций (например, теория интегрированной информации Джулио Тонони, глобальное рабочее пространство Станиса Деаана и т.д.). Но все они находятся на «зыбкой почве» субъективности.