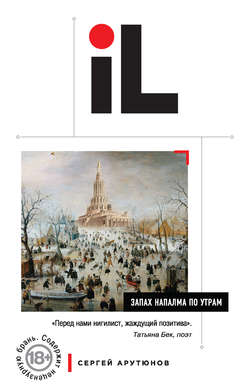Читать книгу Запах напалма по утрам (сборник) - Сергей Арутюнов - Страница 7
Часть I
Запах напалма по утрам
День Победы
ОглавлениеВ то утро отец не чертил. Его доска с прикнопленным листком лежала под газетой, отложенная на вечер. Цанговый карандаш лежал тут же вместе с ластиком и перочинным ножиком для заточки.
Пока идущий мелкой рябью и полосками черно-белый «Темп» доканчивал парад, одна больше другой ползли ракеты, тряслись задранные в приветствии, со специальными скобками внутри рукавов руки командиров экипажей, мы собирались на Красную.
Автобус, вагон метро, еще с пружинными сиденьями, толпа на «Площади Свердлова». Одной рукой придерживая меня, другой – фамильный «Зенит» с экспонометром, отец в который раз, вполголоса и настойчиво остерегал не болтать лишнего. Он был убежден, что весь центр прослушивается насквозь, а когда я спрашивал, где расположены тайные микрофоны, раздраженно цокал языком и увлекал подальше от места, где я опять распустил язычок. Особенно подозрительны в отношении прослушки были фонтанчики на клумбах Александровского сада, но, конечно же, ничего нельзя было сказать наверняка.
Мы огибали бордовый Исторический музей, поднимались к выгнутой, вселенской поверхности фигурно уложенных глянцевито-серых камней, каждый из которых, по уверениям какого-то восторженного прощелыги, помнил Ленина. Я помнил только картину Бродского, где Ильич стоит на фоне Блаженного в черном, слегка лоснящемся костюме. Самой презентабельной деталью фигуры был жилет, застегнутый на все пуговицы. «Правда» в кармане разбавляла пафос.
Оглянувшись, можно было видеть новый плакат с рабочим колоссом, властно требовавшим от съежившегося империализма немедленно прекратить гонку вооружений. Колосс явно апеллировал при этом только к своей мужской силе, не гармонировавшей с интеллектуальной броскостью черт. За ним толпились неразличимые некто разного цвета кожи.
Простор охватывал сразу. За стеной, на зеленом куполе, трепетал огромный флаг, на ней же – знаменитые дымчатые «правительственные» ели еще были метровые – красовались гербы союзных республик, а в центре, на башне за Мавзолеем – герб Союза, больше других. На ГУМе – плакат с профилями Маркса, Энгельса и Ленина.
Отец снимал крышку «Зенита» и делал первый кадр. Я очень стеснялся, потому что все пялились. Я никогда не любил фотографироваться и потому выходил на фото хмуроватым, даже с синим или зеленым шариком и алым флажком с фигурной надписью «С праздником!».
Били куранты, и мы подходили поближе.
Они появлялись у Спасских ворот тихо, изготавливаясь. Трое. Пристукнув прикладами и вздернув карабины на плечо, начинали печатать шаг. Приближались медленно, и вот они уже проходят мимо, в ладно пригнанных мундирах, с ослепительно-снежными аксельбантами, полагавшимися из солдат только им, кремлевцам, с отблескивающими штыками. Двое высоченных молодых парней с большими ногами в лакированных тяжелых сапогах, неуловимо немосковских, готовых отразить любое нападение, и разводящий офицер.
Черные затворы карабинов лоснились от смазки, козырьки нависали над гладкими монолитными лицами, и мне казалось, что все мое детство они были одними и теми же, замороженными во славу Ленина, Поста Номер Один. В дождь разводящий виртуозно набрасывал на них плащ-палатки.
А они уже стукали лаковыми бледно-желтыми прикладами у самого входа (отец сажал меня на плечи, а то я бы ничего не увидел), словно сигналя земле: «Мы пришли», – и тихо входили по плоским ступеням, останавливаясь напротив своих двойников, отстоявших часовую вахту.
Следовала мгновенная пантомима Смены Караула, и я в который раз пытался уловить, как же они меняются, кто куда заходит, но для глаза это было неуловимо. В этот миг били куранты. После исполнения воинского балета они несколько секунд стояли неподвижно, отрешенные, отделенные от всего, пребывающие в трансе Служения, и лишь через несколько протяжных, как осенний крик журавлей, секунд сменившиеся с разводящим тихо сходили со ступеней и начинали печатать обратно. Толпа шла за ними почти до дверей Спасской.
Идя к набережной, мы загуливались и видели, как их сменяли.
Над площадью в солнце летели шары, отец разрешал мне чуть расстегнуться, и мы спускались к Александровскому, где вставали в очередь к Огню. Там, у пламени, рвавшегося из распростертой звезды, все утопало в цветах, женщины плакали, кривились лица ветеранов. Каждый старался положить букетик поближе. Гвоздики, маки, розы, ландыши и гладиолусы клали без пленки, рассыпая. Плиты городов-героев были обихожены не меньше, и можно было сразу сказать, за какой погибло больше всего. Севастополь всегда заваливали так, что его почти не было видно. Там пропал без вести мой дядя. Я уже тогда знал, что наш дед лежит не здесь, что его братская могила в Будапеште потеряна, но шли мы именно к деду.
Мы вставали на красном граните, и я про себя говорил: «Здравствуй, дед. Вот и мы. Я учусь классно, но не очень стараюсь, скучно, зато умею играть на пианино, тебе бы понравилось, у нас все хорошо, не волнуйся. Пока, мы придем через год». Тут нас оттесняли. Отец смирял черным беретом свои летящие по ветру волосы. Иной раз казалось, что дед мог бы быть с нами, двигаться в этой толпе ветеранов в плащах, с навинченными на костюмы орденскими планками, с щеточкой усиков, тощий, порывистый, седокудрый. Но он был далеко. Фронтовиков уже тогда не любили за то, что они были последними, кто победил. Все остальные проиграли и ненавидели стариков в очередях за то, что тем есть что вспомнить. Думали: «Мы бы на их месте всю Европу сюда вывезли со всей ее колбасой».
Когда покупали мороженое, то я всегда обкапывался, и потому сначала пили газировку, ели бутеры с рыбой, а уж потом брали по вафельному стаканчику. Отец ухитрялся снимать меня, а я его. Шли вверх по Горького, вдоль трепещущих флагов, ехали домой, а вечером видели непременный салют.
Дома ели мамины пироги с капустой, смотрели фильмы про войну, звонил телефон.
На следующий день просто гуляли около дома. Пахло свежей травой, плыли облака.
И была Победа.