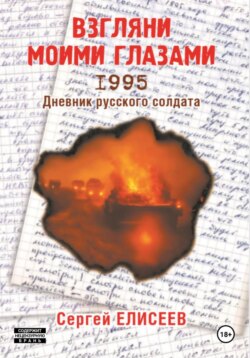Читать книгу Взгляни моими глазами. 1995. Дневник русского солдата - Сергей Елисеев - Страница 5
Глава 4
ОглавлениеНачалось! Сегодня чуть рассвело, как нас подняли. Кто-то постучал в дверь КрАЗа, в кабине которого я спал вместе с водителем – он в гамаке, а я на сиденье. Звук ударов кулака о металл гулко отозвался внутри. Не вставая, я открыл дверь. В предрассветном сумраке разглядел лицо прапорщика Рудакова. – А, ты здесь! – говорит он. – Собирайся. Через полчаса выдвигаемся. Там колонна у лесопосадки, в «бэхе» поедешь.
Шофер слез, убрал гамак. Вздыхая и кряхтя спросонья, мы лишь всунули ноги в сапоги – вот и собрались. Мой вещмешок уже в БМП у Чипа. Я взял медицинскую сумку, автомат, открыл дверь и спрыгнул с подножки. Что дальше? Ни умыться, ни зубы почистить. Позавтракать бы, да где тут…
Мы два дня стояли здесь, у какого-то очередного селения. От офицеров не было никакой информации. «Скоро все узнаете», – вот и все, чего можно было добиться.
Все чего-то ждали, но все равно известие застало врасплох. Куда и зачем направляемся – не говорят. И нам остается только гадать. В Грозный, конечно, а куда же еще! Я чувствую, как дрожит мое тело от возбуждения – это переживания, страх и азарт. Закончились все приготовления, и сегодня, уже совсем скоро, случится то, что для нас уготовано. Словно подхваченный мощным потоком горной реки, я несусь по ее руслу и не в силах что-либо изменить. Я – безвольный участник жестоких и страшных событий конца ХХ века, пылинка на просторах необъятной Вселенной, среди сотен и тысяч таких же моих собратьев, которых несет навстречу неизвестности, в пылающее жерло сверхновой звезды, где нам суждено сгореть. Мы стоим на пороге великого ужаса, на краю пропасти, от которой нас отделяет всего полшага. И сейчас я вместе со всеми его сделаю.
Это утро дышало свежестью и тоской. Мы еще не ушли отсюда, а место нашей временной стоянки уже выглядит покинутым. В последний раз обвожу взглядом эту местность. Возможно, это последнее мое утро…
Вывернув из-за машины, натыкаюсь на прапорщика Семенова. Он подходит и протягивает мне руку, долго жмет ее, глядя в глаза:
– Ну что, Данилов, пришло время, – уже почти рассвело, и я вижу, как светятся его глаза. – Ты давай там, держись! И не высовывайся лишний раз.
– Обязательно! – в ответ я улыбаюсь. – Все будет зашибись! Быстрым шагом ухожу к лесопосадке, вдоль которой сейчас проходит построение колонны. Рокот десятков дизельных двигателей рвет тишину морозного утра. Я подхожу к крайнему танку и останавливаюсь. Мое место в штабной БМП, но она еще не подъехала.
Стоя в гусеничной колее, глубоко вдавленной в чернозем, жду. В нескольких метрах передо мной на трансмиссии танка молодой солдат – «черпак» по армейской иерархии. Он невысокого роста и крепко сложен. Волосы коротко острижены, длинная челка на непокрытой голове взъерошена. В глазах озорные искорки. Солдат без бушлата, в одном кителе «афганки»; через плечи перекинуты ремни подтяжек ватных штанов, гачи которых заправлены поверх сапог. Расставив ноги, он покачивается с пятки на носок. Курит. Улыбается. Мы смотрим друг на друга, и почему-то мои губы тоже растягиваются в улыбке. Я не знаю его имени – все зовут его Плюшевый. Чем-то он и в самом деле смахивает на медвежонка, и я думаю в этот момент, что, вероятно, этот парень должен непременно нравиться девчонкам.
Плюшевый стоит позади башни танка на решетке радиатора, от которого поднимается теплый воздух, и в образовавшемся мареве человеческая фигура искажается, мерцает, отчего кажется невесомой, словно бы парящей. Он что-то говорит мне, смеется, стряхивая пепел папиросы, но слов не слышно – их заглушает рокот дизеля.
Если бы мир сейчас окрасился в черно-белые тона, то все вполне сошло бы за кадры кинохроники времен Великой Отечественной. Прошло пятьдесят лет, тех людей уже давно нет, а образы сохранились. Да что образы, отпечатки времени остались, и любой может на них взглянуть. А что останется от этого времени, от нас? Кто запечатлеет наши лица для потомков, чтобы живущие после нас другие поколения разглядывали их и размышляли над тем: жив остался вот этот солдат или нет? Я гляжу на этого паренька, на танк, в котором он наводчик, на голые стволы деревьев в лесопосадке поодаль – и удивляюсь своим мыслям. А солдатик стоит, покачиваясь на фоне серого неба, и губы его улыбаются…
Меня окликают, и скоро я уже втискиваюсь в узкое нутро десантного отсека БМП. Пузатая медицинская сумка мешает расположиться на узком сиденье, и я снимаю ее, кладу под ноги. Кроме меня, не считая экипажа, еще трое: Шестаков, Муравей и Завьялов. Мы все, кроме Шестакова, одного года призыва, но с ними я мало знаком.
С глухим стуком захлопывается кормовая дверь, и скоро наша БМП уже будто катится – сначала недолго по полю, а затем вскарабкивается на дорогу. Машина то и дело рывками поворачивает, но движется на удивление мягко, словно лодка, скользящая по волнам. Люки задраены. Пытаюсь открыть один, но у меня ничего не выходит: тугие веревки, крепящие снаружи к бортам ящики с патронами, не позволяют этого сделать.
Какое-то время мы мчимся по асфальтовой дороге, это понятно по характерному противному скрежету гусениц. Затем съезжаем в поле. В триплексе вижу деревья. Их голые ветви бьют и царапают броню, с треском ломаются. Обзор очень плохой, открывается лишь небольшой сектор непосредственно напротив узкого окошка триплекса, но из-за того, что БМП движется, картинка за бортом смазывается, и глаз не успевает ухватить ее. Прямо под триплексом есть круглая металлическая ручка в виде трубки, чем-то похожая на дверную. Держусь за нее одной рукой и стараюсь плотно прижаться к ободку резиновой защиты лицом – так обзор немного лучше. За это приходится расплачиваться: я постоянно больно ударяюсь то лбом, то подбородком о металлические выступы.
Машина рывками поворачивает и, не сбавляя ход, высоко задирает нос. Мы валимся друг на друга, а «бэха» снова выезжает на шоссе. Нас болтает в десантном отсеке, словно в банке. Опять мы несемся по асфальту, влетаем в какое-то селение. В триплексе проносятся заборы, стены домов, стволы и ветви садовых деревьев, заснеженная обочина. Сквозь рев двигателя до слуха слабо доносятся выстрелы крупнокалиберного пулемета, судя по звуку – КПВТ. Как мне известно, они стоят только на БТР и БРДМ. В нашем полку есть только последние – у разведки, а единственный БТР – у командира полка.
Раздается гулкий звук выстрела танковой пушки, за ней следом автоматная и пулеметная стрельба. БМП резко останавливается, из башни опускается капитан Уманский и кричит: «К машине!» Сердце учащенно и гулко колотится в груди, чувствую легкую тошноту от волнения. Поворачиваю вниз большую рукоятку рампы, открыть получается не с первого раза, и я со всей силы давлю ее вниз. Дверь поддается, с усилием толкаю от себя, выбираюсь наружу.
В нос бьет резкий запах солярки. Он сопровождает нас повсюду, составляет неотъемлемую часть нашего бытия, и я уже сейчас знаю, что всю оставшуюся жизнь, если, конечно, повезет, запах дизельных выхлопов будет у меня прочно ассоциироваться с войной и вызывать в памяти картины заснеженных полей, техники и человеческих трупов.
Вместе с остальными выбравшимися из десантного отсека осматриваюсь. Повсюду следы скоротечного боя. Первое, что бросается в глаза, – кирпичный забор по правую сторону дороги. Под ним, на обочине, деревянные ларьки с крышами, как на колхозном рынке, на них остатки вещей и продуктов – то, что не успели унести местные жители, когда сюда ворвалась наша колонна. На ближнем прилавке лежит свежее красное мясо – говядина. Куски сочные, мне даже кажется, что я ощущаю их запах. До них метров пять-шесть. В голове мелькает шальная мысль прихватить один. Но куда его деть? И потом, можно ли это сделать? Вдруг хозяин вернется и обнаружит пропажу? Что тогда?
Все эти размышления занимают не более секунды. По другую сторону дороги – кусты, слева вдали – редкие деревья, затем – поле. Прямо напротив – здание из бетонных блоков высотой в три-четыре этажа с двускатной крышей, под ней продолговатые узкие оконные рамы – какой-то промышленный объект. Колонна растянулась и встала на дороге, ее конец отсюда не виден, но мне представляется, что наша БМП находится фактически в голове. За спиной забор, упирающийся в стену дома стоящего прямо на перекрестке. Мы остановились как раз метрах в десяти от этого него. Впереди танк и две БРДМ разведки. С Юркой Долгополовым отходим на противоположную обочину, и нашему взору предстает сюрреалистическая картина. Справа от перекрестка в кювете раздавленные голубые «Жигули», а дальше, прямо на дороге, оранжевый «Москвич» с открытыми дверями. Лобовое стекло осыпалось, в железе вмятины и пробоины от пуль. У левого переднего колеса в дорожной грязи лежит что-то похожее на большую тряпичную куклу. Это водитель. Немного дальше горит едким пламенем трактор «Беларусь». А слева, метрах в тридцати от перекрестка, КамАЗ с рефрижератором. Кабина в крупных рваных отверстиях, двери закрыты, стекла выбиты, из-под капота идет черный дым, робкие языки огня лижут металл и лобовое стекло.
Один из военных, сразу видно, что не срочник – подогнанная разгрузка, камуфляж, кепка, надетая задом наперед, и, что удивляет… рыжая борода – подходит к машине и, поднявшись на подножку, открывает дверь со стороны пассажира. Ненадолго замирает, затем спрыгивает и, отойдя на несколько метров в сторону, опускается прямо на землю, закрывает лицо руками и тут же вскакивает, наклоняется – его рвет. Мы с Юркой переглядываемся, в его прищуренных глазах смех.
– Слабак! – бросает он, слегка кивая на бородатого.
– С чего это? – до меня еще не совсем доходит суть происходящего.
– Жмурика увидел и блюет, – Юрка стоит, выпятив грудь, чуть покачивается на расставленных ногах, руки в карманах штанов, губы растянуты в ехидной улыбке.
Я молчу. Развороченные машины, горящий трактор, трупы людей, военная техника посреди жилой застройки – все выглядит настолько четко и реально, и в то же время противоестественно, что не укладывается в моей голове. Само наше присутствие здесь кажется противоестественным. Зачем было расстреливать машины гражданских – я решительно не понимаю. Говорю об этом Долгополову. Он достает из-под бронежилета пачку папирос, закуривает и с интонацией бывалого солдата отвечает:
– Понимаешь, Медицина, тут война идет, а они, – он тычет рукой с зажатой между грязных пальцев папироской на легковую машину, – вздумали нам урок преподать. Из этого «москвичонка» «духи» выскочили, дед с бородой гранатомет стал на танк наводить, вот его и укокошили.
– А остальные?
– Остальные с автоматами были, – Юрка пожал плечами. – Разбежались, кто куда. Один вон в тех кустах спрятался, и когда разведка проехала, начал шмалять по ней. По нему танк наш стрелял, только, по-моему, промазал.
– Угу, – я внимательно слушаю.
– А трактор вон тот, видишь, следом ехал, ему по ходу случайно прилетело, когда в деда с «Мухой» стреляли. А вон та фура хотела проскочить, когда пальба шла. Ее остановить пытались, уже после того, как этих уделали. Выходит, сами виноваты. Вон из того БРДМ пулеметной очередью их уработали, – он снова тычет рукой в сторону.
– Ты-то откуда знаешь?
– Я через триплекс все видел.
Только сейчас соображаю, что Юрка наводчик БМП и сидел не в десантном отсеке вместе с нами, а рядом с капитаном Уманским в башне и действительно мог все видеть. Значит, не врет.
Пытаюсь разглядеть гранатомет возле оранжевого «Москвича», но не могу – слишком далеко. Юрка держится бодро, напускает на себя уверенность, словно ему не впервой, и делает он это с удовольствием. Тем самым демонстрирует свое превосходство надо мной. И это на самом деле так, ведь я, напротив, не чувствую в себе никакой уверенности. Скорее, ощущаю себя соучастником невообразимого происшествия, возможно, даже преступления. И в то же время во мне живет некая причастность к исторической значимости происходящего. Это вызывает другие эмоции, и у меня нет слов, чтобы их описать.
В хвосте колонны начинается движение, это понятно по реву и рыку моторов, лязгу гусениц, нарушивших монотонное урчание десятков дизелей. Мимо нас проезжают танки и грузовые машины, на перекрестке они сворачивают вправо. Несколько танков двигаются по дороге прямо и где-то далеко впереди останавливаются. Мы смотрим на это движение, все так же сгрудившись у БМП. Из нее вылез Чип и сейчас молча курит. Юрка вразвалочку отходит в сторону противоположной обочины дороги и, вдруг попятившись, опрометью несется обратно. На ходу он скидывает с плеча ремень автомата, перехватив его за цевье.
Невольно напрягаюсь и тоже поднимаю руку к плечу, запускаю большой палец под автоматный ремень, готовый в мгновение снять его. Чип невозмутим: поза расслабленная, лицо спокойное, левая рука в кармане бушлата, в кулаке правой зажата сигарета. Держит он ее не так, как обычно это делают на гражданке – между указательным и средним пальцем, – а по-особенному, прижав большим пальцем к основанию указательного. Так огонек, словно бы зажатой в кулак сигареты, не виден в ночи.
Я уже давно заметил, что чуть ли не с первого дня курильщики, а это почти все, кого я знаю, стали так держать сигарету. «По-фронтовому, – как мне пояснил Муравей, – это чтобы снайпер не засек». И вот сейчас Серега спокойно курит, а Юрка подбежал, но не к нам, а к капитану Уманскому. И скороговоркой докладывает, что у «Жигулей», которые съехали в кювет и сейчас валяются в примятых кустах акации, лежит раненый чеченец. Пока начштаба выслушивает, лицо его спокойно. Затем он спрашивает:
– С оружием?
– А черт его знает, может, и с оружием. Раненый он. Смотрю, поднимет голову, будто встать пытается, и снова опустит. Поднимет, опустит.
– И что ты от меня хочешь, Долгополов?
– Так спросить, товарищ капитан: что с ним делать?
Лицо у Юрки возбужденное, щеки горят румянцем, отчего прыщи на них выделяются еще сильнее. Глаза задорно блестят, пальцы обеих рук цепко сжимают автомат за цевье и основание приклада. Всем своим видом он словно спрашивает: «Разрешите добить?» Но вслух не произносит, не решается.
Капитан все понимает и так же спокойно отвечает:
– Ничего.
Уманский стоит весь прямой и аккуратный, словно являя нам собой образец для подражания. Высокий, сухопарый, подобранный и ладный. Черные усы подстрижены и слегка приоткрывают верхнюю губу, на ней прилипла шелуха семечки. По одной он забрасывает зерна в рот и, раскусив, сплевывает кожуру. Рот его при этом искривляется, а губы слегка вытягиваются в трубочку.
Юрка мнется, не уходит, оборачивается в сторону обочины. Мысль уже завладела им целиком – отступать он не хочет. Невольно мы с Чипом тоже глядим туда, но как я ни высматриваю, кроме заваленной на бок машины ничего не могу разглядеть. Любопытство свербит меня изнутри, хочется подойти поближе и рассмотреть все в деталях: расстрелянную машину, раненого чеченца. Может быть, ему нужна помощь? Но что-то мешает, удерживает. Тем временем Долгополов решается произнести вслух то, что его мучает, не дает покоя. Он выпаливает скороговоркой:
– Товарищ капитан, разрешите мне его добить? Ну, чтоб не мучился.
В голосе Юрки слышатся нотки сострадания, вот только выражение лица говорит обратное. Уманский в очередной раз сплевывает и резко отвечает:
– Младший сержант Долгополов!
– Я!
– Кругом! Марш!
Юрка разворачивается и, понурив голову, направляется к нам. Мы ждем.
– Вот гад, – непонятно, кого имея в виду, произносит он вполголоса. – Представляете, лежит, смотрит на меня и встать пытается. Голову поднимет, посмотрит на меня и снова опустит. Я бы его добил, чесслово. Ноги ему перебило. И на груди кровь. Легкое, наверное, задето.
Долгополов на мгновение смолкает, словно задумываясь, и уже серьезно добавляет, переводя взгляд голубых глаз с меня на Чипа:
– Я бы ему прямо в лоб засадил. Одиночным.
Мы с Чипом от таких слов будто онемели, дикость услышанного поражает. Я раньше и подумать не мог, что в этом прыщавом парне таится столько жестокости. Или это не жестокость? Может быть, азарт? Не прошло возбуждение после боя? Да нет же, к черту, какое возбуждение, какой бой? И боя-то, собственно, не было. Заехали колонной в село, заняли перекресток, расстреляли из пулеметов и пушек несколько машин… Ну пусть даже и был боевик в одной из них – дела это не меняет. На- стоящего боя не было! И списывать Юркино поведение на это никак нельзя.
Так что же тогда с ним происходит? Почему он так себя ведет? Или, может, он и был таким всегда, но нормы морали и поведения в обществе не давали раскрыться этой черте, а здесь, на войне, все изменилось? Оковы, сдерживавшие жажду насилия, слетели, и теперь человек стал абсолютно свободен в своих желаниях и порывах? Эта мысль, даже не сама мысль, скорее, ее образ, лишь коснулась сознания и исчезла.
Где-то справа за кирпичным домом грохнул выстрел танковой пушки. Мы встрепенулись. Невесть откуда взявшаяся собака дернулась на полусогнутых лапах, отскочила от куска мяса, валявшегося у ларька, – кто-то его скинул ей с прилавка. Она шарахнулась в сторону, поджав хвост, но быстро вернулась. Исподлобья поглядывая на стоящих рядом солдат, опасаясь, как бы кто не пнул ее сапогом, псина продолжала жадно рвать мясо. Ей бы бежать с ним куда-нибудь подальше от нас, а она тут трапезничать вздумала.
Заметив собаку, Юрка во второй раз подбежал к капитану и, улыбаясь, обратился:
– А собаку? Собаку, товарищ капитан? Разрешите собаку убить? – Юрка стоит перед Уманским навытяжку, весь напряженный, нетерпеливый.
Тот отворачивается от старшего лейтенанта, с которым разговаривал, и пристально смотрит на Юрку так, словно увидел впервые. Потом спокойным и тихим голосом спрашивает:
– Долгополов, ты что – дебил? – слово «дебил» он выговаривает по слогам.
– Никак нет, товарищ капитан, – Юрка обиженно насупился.
– Ну раз нет, то пошел к чертовой матери от меня. И вообще… Ты у меня кто? Наводчик? Вот и давай, займи свое место в башне. Наблюдай.
– Есть наблюдать, – вяло отвечает Юрка и нехотя волочится к БМП, карабкается на броню и скрывается внутри машины.
Мы с Чипом снова переглядываемся и смеемся. Все, кто слышал этот разговор, – тоже. Начштаба сплевывает в сторону, слышен его мат. Дворняга, виляя опущенным хвостом, как ни в чем не бывало ест мясо, не догадываясь о той участи, которая ее только что миновала.
Между тем события на перекрестке развивались так… Разведчики подошли к рефрижератору, открыли его двери и тут же отскочили назад. Затем, направив вглубь фургона автоматы, требовательно закричали матом. Мы стоим поодаль и наблюдаем, как из «холодильника» по одному спрыгивают на асфальт мужчины, отбрасывают в сторону свои автоматы и поднимают руки. Разведчики оттаскивают обнаруженных к борту машины, заставляют встать, широко расставить ноги и упереть руки в борта. Двое обыскивают их, что-то вынимая из карманов. Похоже, это ножи и запасные автоматные рожки. Чеченцев восемь, на вид от двадцати пяти до пятидесяти лет, одеты в кожаные куртки, короткие дубленки, норковые шапки «формовки». Не- которое время задержанных о чем-то допрашивают. До нас не доносится этот разговор, но и так понятно: выясняют, кто та- кие, откуда, куда и зачем направляются? Пленных выстраивают друг за другом и ведут через перекресток. Они понуро бредут, один то и дело озирается на горящую кабину рефрижератора.
Долгополов тоже замечает их и, стоя по пояс в люке БМП, свистит двумя пальцами. Нас одолевает любопытство: что будет дальше? Хотя и так начинаем догадываться, что ничего хорошего этих чеченцев не ожидает. Мы выходим на дорогу и продвигаемся немного ближе, чтобы лучше было видно.
По другую сторону от перекрестка, справа на углу поля, стоит железнодорожный вагон, покрытый зеленой, местами облупившейся краской, на окнах – занавески. Вероятно, он использовался в качестве бытовки. Сейчас же вдоль него выстраивают пленных – руки у них заведены за спины. От нас до вагона не слишком далеко, и можно рассмотреть выражение лиц: одни испуганные – суетливо ловят взглядом каждое движение наших солдат, другие дерзкие – смотрят с вызовом или исподлобья. Однако стоят они смирно. Головы у многих опущены.
Напротив, у самой дороги, собираются все те же бородачи в камуфляжах, автоматы они держат обеими руками, на чеченцев стволы не направляют, но всем своим видом показывают, что готовы пустить оружие в ход в любой момент.
Мы не решаемся подходить еще ближе и стоим под прикрытием стены кирпичного дома.
– Сейчас расстреливать будут, – произносит высоким голосом один из водителей КамАЗа и смачно сплевывает.
– Че мы, фашисты, что ли? – возмущенно отвечает ему Чип.
– Они же пленные. Может, и вовсе мирные жители.
– Зачем им в Грозный ехать, если они мирные? – не соглашается водитель. – Тем более с оружием. Это новобранцы. А теперь все… По законам военного времени.
С этими аргументами все соглашаются.
Над поселком висит кудлатое небо – тяжелое, низкое. Дальше, чем на сотни метров из-за тумана ничего не разглядеть, и потому кажется, что оно целиком накрыло землю. И только над нами некий незримый купол не дает ему опуститься вниз. Дома, дорога, деревья, кусты, военная техника и люди – все настоящее. Мне это не снится, это происходит сейчас, и я – часть происходящего, я – часть этого мира.
Ждем развязки. Люди в камуфляжах как-то обыденно и не спеша поднимают автоматы и, уперев приклады в плечи, короткими и длинными очередями стреляют в стоящих у вагона. Те начинают падать. Один, подломившись в поясе, падает вперед, лицом прямо в землю. У другого с головы слетает шапка, он удивленно вскидывает брови и заваливается назад. Кто-то оседает на месте. И хоть на таком удалении это невозможно разглядеть, но мне кажется, что в тех местах, где в стену вагона впиваются пули, дырявя ее, отлетает краска, выплескиваются облачка пыли. Последний из стоявших развернулся к стрелявшим полубоком, ссутулился, вжал голову в плечи, словно стремясь стать меньше, и стал пятиться назад… Но вот все кончено. Скрюченное тело мужчины замирает на земле.
Стрельба смолкает. Военные неторопливо подходят к убитым, толкают их ногами. Кто-то из наблюдавших высказывает предположение, что сейчас будут добивать в голову, но этого не происходит. Убедившись, что живых нет, стрелявшие разворачиваются и уходят к своей БРДМ, на ходу доставая из карманов сигареты и закуривая.
Все произошедшее выглядело как-то… буднично. Так же нависает серое небо, стоят заснувшие до весны деревья. В морозном воздухе от работающих дизелей распространяется запах перегоревшей солярки. Ничего не изменилось вокруг, только оборвались жизни восьми человек. Если меня не станет, то в этом мире тоже ничего не изменится. Разве это справедливо?
Возвращаемся к своей БМП. Начальник штаба и комбат смотрели на все это вместе с нами и теперь бредут чуть поодаль, тихо переговариваясь. Я подхожу к ним и, совсем не по-уставному обращаясь, спрашиваю у комбата: разве можно расстреливать пленных без суда, и почему мы не отправили их в тыл? Не глядя на меня, он отвечает:
– А куда ты их отправишь? Здесь нет тыла… – И, помедлив, добавляет: – Не с собой же их таскать.
Постепенно всю технику отвели, спрятав по лесопосадкам и кюветам. Дорога опустела, остались лишь раздавленные «Жигули», «Москвич» на обочине, да трактор все продолжает чадить – к равнодушному небу тянется густой дым. Наша БМП, проскрежетав траками по асфальту, пересекла перекресток и, въехав во двор магазина с вывеской «Автозапчасти», спряталась под навесом.
Наше подразделение заняло территорию вокруг дома, почти вплотную примыкающего к магазину. Как раз в этом месте стоит танк комбата. Корма и правый борт прикрыты кирпичными стенами недостроенного магазина, а ствол смотрит в сторону рефрижератора. Здание продолговатое, второй этаж не завершен: в стенах зияют оконные проемы, крыша отсутствует. На первом этаже пустые витрины, сломанный стул, стол с кассовым аппаратом, шкаф. Дом одноэтажный, с высокой двускатной крышей. Он стоит на краю поля, в том месте, где смыкается углом лесопосадка.
Как оказалось, перекресток, что мы заняли, образован пере- сечением трассы Краснодар – Баку с дорогой, соединяющей Грозный и Старые Атаги. А селение, вблизи которого он расположен, называется Гикаловский. Отсюда до Грозного не больше пятнадцати километров. Это нам рассказал Сашка Проничев. Сейчас он стоит на броне и, выпятив живот, справляет малую нужду. А мы с Долгополовым расположились у дороги, поблизости от танка. Шиша не глушит двигатель, и на холостых оборотах тот негромко тарахтит.
Меня с Юркой отрядили в охранение. Мы нашли бугорок у обочины и уже почти час лежим, привалившись к нему спинами, прямо на земле. Оказывается, в бронежилете можно лежать на любой поверхности. Словно хитиновая оболочка, он защищает от неровностей, а ватный бушлат и штаны сохраняют тепло. Юрка курит, а меня начинает клонить в сон, с трудом удается с этим справляться. Перевалило далеко за полдень. Движения по дороге нет, только раз вдалеке показалась красная легковушка, но, видимо, заметив дым горящих автомобилей, быстро развернулась и умчалась прочь.
Пришел Чип, рассказал, что в кабине КамАЗа ехала семья: муж с женой и двое детей, мальчик и девочка, примерно четырех и шести лет. Об этом он узнал от разведчиков. Предлагает сходить и посмотреть. Юрка заинтересовался, и они уходят. Меня же пробрал озноб. Помимо воли в воображении живо воз- никла картина: обгорелая вспучившаяся краска кабины, через приоткрытую дверь черными змеями расползается дым. И застывшие на сиденье, словно манекены, обугленные трупы детей и взрослых. Стало невыносимо тошно, к горлу подступил ком. Боже мой, что же мы тут делаем? Зачем все это и кому оно нужно? Гляжу в спины удаляющихся товарищей и ненавижу их – и себя заодно. Но не в моих силах что-то изменить.
Вернулись они быстро. Долгополов сел рядом со мной:
– Знаешь, Медицина, правильно, что ты не пошел. Там такое!..
Не уточняю, что именно, и так все очевидно. Если даже Юрка так потрясен увиденным, который всего пару часов назад хотел застрелить человека или животное, то я точно этого видеть не хочу.
Мы молчим, и я стараюсь не думать об этом КамАЗе, но он, как назло, постоянно попадает в сектор обзора, и поневоле я то и дело мысленно заглядываю внутрь этой злосчастной кабины – и все вижу… Ну почему они не проехали десятью минутами раньше или позже?! Тогда ничего бы не случилось с детьми. И я бы об этом не знал, не видел всего и мог жить без этих воспоминаний.
Подошел Рудаков, присел рядом с нами прямо на землю, помолчал. Чип спрашивает, заглядывал ли он в кабину КамАЗа?
– Да… Лучше бы не делал этого, – прапорщик отрешенно озирает убегающую вдаль дорогу.
– Детей жалко, – произносит Чип и ждет, что ответит Рудаков.
– Жалко…
– Можно ведь было не расстреливать этот рефрижератор?
Ну остановить его как-нибудь… А?
– Можно, наверное. Не знаю я, – прапорщик вынул пачку сигарет, повертел ее и убрал обратно в карман штанов. – Кто же мог знать, что там дети?..
– Твари они, я считаю! – категорично произносит Юрка и, чуть нагнувшись, сплевывает под ноги.
– Кто? Дети? – переспрашиваю я.
– Нет. Родители их и те, что в «холодильнике» ехали.
– Почему?
Смотрим на Юрку вопросительно, ждем что он нам пояснит, сами пока еще не понимаем, куда он клонит. А он глядит на Рудакова, пинает ветку, валявшуюся под ногами:
– Детьми своими прикрыться хотели. Вот почему! – глаза его сузились, взгляд стал беспощадным. – Сами они виноваты в убийстве своих детей. Считай, они сами их на убой привезли. Послышались шаги. Оборачиваюсь – бежит Масюлянис.
– Медицина, тебя и Юрика комбат вызывает. Приказал быстро к нему.
– Зачем?
– Не знаю. Не сказал.
Масюлянис переминается с ноги на ногу и глядит то на меня, то на Юрку. Роста он немного выше среднего, волосы светлые, лицо продолговатое, лоб широкий, нос с горбинкой, глаза маленькие, близко посажены, взгляд постоянно настороженный, рот широкий, губы узкие, а подбородок резко выраженный, выдается вперед. Когда Масюлянис говорит, то немного картавит, и за это Шиша его постоянно передразнивает. Как-то я спросил Сашку, за что он невзлюбил своего наводчика?
– А че, он девочка, чтобы его любить? – ответил тот вопросом и в упор посмотрел мне в глаза. Взгляд был колючим, неприятным, я с трудом его выдержал. – Он же «стукач» долбанный. Плачется комбату вечно, что я ему звиздюлей поддаю,
– Шиша хрипло хихикнул.
– А он? – спросил я, имея в виду комбата.
– А че он? – Шиша осклабился. – Он же знает, что Масюлянис «стукач», поэтому просто просит, чтобы не обижал его сильно. А я его разве обижаю? Я его учу! К тому же не очень сильно. – Сашка выпрямился, поднял вверх правый указательный палец и с серьезным выражением назидательно продолжил: – Ибо! Не надо, как «крыса», жрать втихаря. Натырит в штабе по карманам конфет и сухарей с изюмом, а то сало или колбасу, и жрет, когда никто не видит. А я все вижу! – он сделал ударение на это «все». – Он же «шнырь»! Яичницу пожарит с колбасой для штабных и себе заодно. Потом посуду за ними моет. А был бы нормальный пацан, то «подогревал» бы братву. Вот Танцор нормальный парняга был, не жлоб – приносил.
Под штабными Сашка понимает офицеров штаба. Он грызет соломинку и сплевывает.
– Танцор срулил, – напоминаю я, – пока мы под Толстой-Юртом стояли. Забыл?
– Знаю. Думаешь, эта кишка бы не срулила? Сдриснул бы, как и не было, если бы за ним мамаша приехала.
– А ты бы не сдриснул? – испытующе смотрю я на Сашку. Про себя не знаю, как бы поступил сам на месте Танцора, а поэтому не хочу его осуждать.
– Я – нет, – Сашка глядит в упор, глаза его сузились.
И весь этот сыр-бор из-за того, что командному составу выдают дополнительный паек в виде сгущенки, яиц, сала, колбасы и чего-то еще. Нас же кормят три раза в день из полевой кухни, и в целом на питание мы не жалуемся. Однако хотелось бы и разнообразнее. Иногда я приходил к Шише, он угощал меня то сухарями с пресловутым изюмом, то колбасой. Я не отказывался и, пристроившись на трансмиссии его танка, с удовольствием запивал еду теплым компотом или остывшим чаем из алюминиевого термоса.
Последний, как поведал мне Сашка, входил в комплект оснащения каждого танка. Стенки у термоса толстые, испещренные многочисленными царапинами, в которые втерлась грязь. Сбоку крепятся петли с продетым в них кожаным ремешком. Горловина широкая, крышка винтовая, тоже алюминиевая. Стеклянной колбы внутри нет, так что содержимое быстро остывает, это главный минус.
Сейчас мы с Долгополовым поднимаемся с земли и бредем к магазину. Ходить в бронежилете не очень удобно, тем более, когда на тебе ватные штаны, бушлат и валенки. Особенно тяжело подниматься с земли. И хотя, выезжая сегодня утром, я надел сапоги, сильно легче не стало. Идем молча, говорить не хочется. Юрка посмотрел на часы – почти пять. Скоро стемнеет.
Здесь рано наступают сумерки, и пришла мысль: где буду ночевать? Все предыдущие дни мы спали в палатках, врытых в землю, а последние две ночи я коротал в кабине КрАЗа вместе с водителем. И благо, что там, а не в танке у Шиши, а ведь была и такая перспектива. В машине хоть печка есть, а в танке, что в консервной банке, холодно – почти как на свежем воздухе. Несмотря на то, что водители редко и ненадолго глушат двигатель, дизель не спасает, мало отдает тепло, поэтому внутри температура едва выше нуля. Единственное место, где танкисты могут согреться и поспать, так это трансмиссия, куда они приспособились расстилать брезент, зарывшись в него, как в берлогу. Вот там-то действительно тепло.
Подходим к танку, докладываем комбату о прибытии.
– Ладно, давайте на второй этаж, – он указывает на магазин.
– Ведите наблюдение за дорогой и полем справа.
– Есть! – негромко отвечаю я. И уже начинаю размышлять, как туда забраться.
Однако Юрка останавливает мои мысли просьбой:
– Разрешите перекусить сначала, товарищ подполковник? – И добавляет, как бы извиняясь: – С вечера ничего не ели.
– Разрешаю.
Шиша сидит на трансмиссии, греется, ковыряет в зубах спичкой – похоже, уже пообедал. Мы подходим к нему и, не сговариваясь, спрашиваем почти одновременно:
– Есть что пожрать?
– Оголодали, голубки? – Сашка кривит рот в добродушной усмешке. Затем стучит автоматом по башне танка.
Оттуда высовывается грязная физиономия Масюляниса. И когда успел залезть? Кадык его судорожно двигается, губы жирно лоснятся, вопросительно смотрит.
– Опять колбасу хаваешь, крысеныш?! – скорее утверждая, чем спрашивая, с нажимом обращается к нему Шиша. – Пацаны жрать хотят, сухпай достань. И термос не забудь.
– А че я? У них своего нет, что ли? – осторожно пытается возразить тот.
Но Сашка грозно произносит:
– Ты че, уверовал, что ли, в себя, морда эстонская? Бегом давай, воин.
Голова наводчика исчезает в люке, а мы забираемся на трансмиссию и усаживаемся на брезенте. Вскоре я уже вскрываю две банки перловой каши. Костры разводить нам запретили, поэтому гнущимися ложками долбим и выковыриваем смерзшуюся кашу. Это не так-то и просто: застывший жир, словно цементный раствор, прихватил ядреные зерна и волокна мяса. Мерз- лая каша кажется сухой, у нее почти нет вкуса, а жир неприятно прилипает к небу, когда запиваешь из кружки холодным чаем.
– Что каша, что картон, – произношу это набитым ртом. – Может, на трансмиссии погреть стоило?
– Ждать замучаешься, – говорит Юрка.
Едим недолго, без удовольствия. Закончив, стряхиваем с брезента хлебные крошки и упавшие крупинки перловки.
После солдатской трапезы лезем на второй этаж по приставной деревянной лестнице, которую притащили со двора. Под нашей тяжестью она скрипит, но выдерживает.
Стены второго этажа возведены почти полностью, высота их достигает двух метров, и с торцов здания они глухие, так что здесь мы уже не торчим посреди дороги – есть куда при случае спрятаться.
В двух других стенах имеются пустые оконные проемы. Через них открывается с одной стороны вид на вспаханное поле. Слева оно ограничено дорогой, уходящей в направлении Чечен-Аула, а с другой – наш перекресток, сейчас он пуст.
Повсюду в доме валяется строительный мусор. От нечего делать мы время от времени пинаем его в зияющий в полу квадратный лестничный проем. О чем-то говорим, но снова не о том, что нас более всего сейчас беспокоит. Что дальше? Что будет завтра? Что будет с нами, со мной? Вдруг убьют? Мысль эта обжигает, еще никогда раньше я не думал о своей смерти всерьез. Конечно, как и все, я знаю, что рано или поздно умру, опять же – как и все. Но лишь теперь четко понимаю, что это «рано» может случиться в любое мгновение. и мороз пробегает по спине.
Или, может быть, это я просто замерз? Пальцы на ногах в самом деле озябли и даже частично потеряли чувствительность. Чтобы согреться, слегка сжимаю и разжимаю их. Уши тоже начинает прихватывать, и я сильнее натягиваю шапку. В конце концов развязываю завязки на «ушах» шапки и опускаю их. Ни в учебке, ни в гарнизоне мы так никогда не делали, даже в морозы, но сейчас, здесь… Кому какое дело! Главное, что теплее. Сколько мы уже торчим на этой крыше? Наверное, часа два, а может, все четыре. Небо темнеет, воздух теряет прозрачность, видимость резко падает – начинает смеркаться. Долгополов рассказывает, как в учебке взводный гонял их полночи по морозу в одних трусах и майках за то, что пили пиво в каптерке. Когда он смеется, изо рта идет пар.
Невольно мне вспоминается случай из детства. Мне было лет семь. Кто-то из друзей рассказывал военные истории про разведчиков, которые посты немецких солдат в глубоких траншеях определяли по облачкам выдыхаемого пара. От этого воспоминания становится неуютно, и я уже совершенно иначе оглядываю место нашего расположения: вот стоит дом с широкими окнами без рам, а в нем, как в тире, маячат наши фигуры. Не нужно быть снайпером, чтобы вон из тех кустов, что растут вдоль дороги метрах в двухстах отсюда, расстрелять нас.
Излагаю свои мысли Юрке, но он делает вид, что ему не страшно. И даже издает смешок и успокаивает меня:
– Не ссы, Медицина. Ничего с нами не случится. Мы – бессмертные!
С этими словами Долгополов тянется в нагрудный карман за сигаретами и закуривает. Правда, делает это осторожно, отвернувшись к стене и прикрывая ладонями горящую спичку, а затем и огонек сигареты. И я понимаю, что он тоже побаивается. Подойдя к проему окна, осторожно высовываюсь в него и осматриваюсь: справа в поле в сумерках еще видны три наших танка. До ближайшего метров сто и между ними примерно метров тридцать. Танки стоят вдоль лесопосадки, обратив стволы вверх на противоположную от нас сторону. Отсюда не слышно, но я знаю, что их двигатели работают. Экипажи не видно. Оттого, что мы не одни, становится намного спокойнее.
Давно стемнело, да так, что я почти не вижу Юрку, который в нескольких шагах от меня. Лишь когда он затягивается сигаретой, в красноватом свете чуть проступают его лицо и силуэт. Мы совершенно закоченели и спрашиваем разрешения у комбата погреться на трансмиссии. Аргументируем тем, что холод собачий, а видимость нулевая. Он соглашается.
Спускаемся вниз, скидываем свои бронежилеты и, стоя на решетках радиатора, греемся в струях горячего воздуха.
Спать решаем здесь же. Шиша уже расстелил брезент на броне за башней. Откуда-то появились спальные мешки, и мы укладываем их поверх. Юрка ложится на спальник сверху и накрывается краем брезента. Но я так не хочу, я люблю комфорт: снимаю сапоги, ремень, на котором подсумок с тремя магазинами, и лезу в спальник прямо в бушлате и ватных штанах. Сверху натягиваю другой край брезента – так тепло и уютно. И моментально засыпаю.