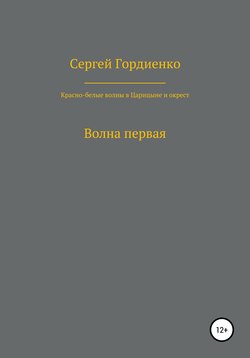Читать книгу Красно-белые волны в Царицыне и окрест. Волна первая - Сергей Гордиенко - Страница 8
Уездный город театров
ОглавлениеЦарицын. 28 мая 1918 г.
Наш поезд прибыл в 4 утра. Вокзал пуст. Никто не встречает.
– Неудивительно, – угадал мои мысли генерал. – С таким военно-анархическим положением в стране никто и предположить не может, когда мы доберёмся. И доберёмся ли вообще! Показывайте город, унтер-офицер! Не будем терять время!
Я повёл генерала через центр города на набережную. Признаться, утренний Царицын представлял собой наиприятнейшую картину – остался прежним уездным городом казаков, помещиков, промышленников и рыбаков, с широкими немощёными улицами и электрическими фонарями. Трамвайная линия?! Что-то новое! Я не сразу обратил внимание, так как давно уже привык к петербуржским трамваям. Вагончик, громыхая по узким тонким рельсам, покатился в сторону собора Александра Невского и скрылся между трёхэтажными зданиями, далее петляя среди купеческих усадеб, складов из красного и белого кирпича и деревянных домов обывателей, окружённых огородами с некрашеными дощатыми заборами. Недалеко от собора виднелась пара белых церквей с зелёными куполами, а рядом два городских парка, примечательных только скамейками и рядами высоких тополей. Тополя уже семенились, покрывая округу белым пухом и создавая иллюзию нетающего снежного покрова на фоне раннего лета. Днём, как всегда, будет жарко.
Между парками располагался базар, где в тени абрикосин и яблонь на латках, а кое-где и просто на деревянных ящиках, женщины продавали колбасы, домашний хлеб, баранки, помидоры и огурцы, а рыбаки предлагали утренний улов.
Перед спуском к Волге виднелись хозяйственные лавки, харчевни и трактиры. Внизу, у самой воды, – широкая накатанная телегами дорога, проходящая по всему берегу в центре города. Здесь расположены пристани частных предпринимателей и крупных компаний. Пристани частников – деревянные домики с двускатной крышей, а перед ними в воде столбы, перекрытые толстыми досками. Сюда причаливают лодки мелких торговцев и перевозчиков соли и горчицы, а с противоположного берега из хутора Букатина везут на городские базары фрукты и овощи. Крупные пристани компаний – баржи с надстройкой в два-три этажа – возвышались над поверхностью Волги.
Мы присели на лавочке с прекрасным видом на противоположный берег.
– Это и есть остров Голодный? А там река Царица? – показал рукой генерал.
– Именно так.
– Вы бывали на острове?
– Не приходилось.
– Крайне интересно было бы посетить, найти остатки казачей крепости. Всё-таки военная история!
– В городе о ней никогда не говорили. Думаю, там совершенно ничего не осталось. А вон слева, видите, у самой воды домик деда Прохора. Он по утрам всегда ловит рыбу со своего причала. Летом причал сдаёт рыбакам с левого берега. Они у него оставляют лодки, пока продают рыбу на базаре. Я ночевал у него, когда переправиться домой не было возможности. А вон и он!
Из домика вышел старичок в казацкой фуражке. Уселся на доски и закинул удочку.
– А это что за сооружение на набережной?
– Народная аудитория. Здесь совершенно бесплатно давали концерты и читали лекции на самые разные темы. Построена на деньги купца первой гильдии Репникова и его младшего брата. Самые богатые люди города и меценаты! Старший из них всегда повторял, что верит в образование, ибо оно делает мир лучше, а людей добрее.
– Какой крутой спуск к реке! – отметил Снесарев. – Если нас тут прижмут, то удержать последний рубеж будет невозможно. Каждый клочок земли просматривается сверху. Укрыться негде! А почему город назвали Царицыным? В честь какой царицы?
– В гимназии на уроках истории, помню, учитель говорил, что название, как ни странно, не связанно с русским словом «царица», а происходит от тюркского «сарысу» – жёлтая вода. На берегу Царицы когда-то существовал татарский город Сарачин.
– Вот как! Ах да, здесь же была Золотая Орда. Тогда давайте пройдёмся до Царицы. Может, там вода будет жёлтой. В Волге обычная, синяя, – засмеялся генерал.
Недалеко от моста на противоположном берегу Царицы, в окружении домов купцов-меценатов и всё тех же тополей вперемежку с акациями виднелась моя родная Александровская гимназия.
Направляемся к Царице – мелководной речушке, перпендикулярно впадающей в Волгу, через которую перекинут Астраханский мост, соединяющий центр города с Зацарицынским районом. Там недалеко от крутого берега стоит реальное училище, где учится молодёжь города и куда непременно попал бы и я, если бы не уехал поступать в кавалерийское училище.
– Вон там рядом с домом купца Калинина проходили первые театральные представления в городе и, собственно, началась театральная жизнь. Далее дом купца Божескова с зимним театром. А вон видите огромный сад? Дом купчихи Шешинцевой. Прямо в саду построила летний театр. А слева находится театр «Конкордия», построенный заводчиком Миллером. В этих кварталах мы, гимназисты, расклеивали афиши и продавали «Волжско-Донскую Газету». Работы было много, потому как спектакли ставились каждую неделю, что наполняло наши карманы всякой мелочью.
– Прямо уездный город театров! Превосходно! На что же Вы тратились?
– Как и все мальчишки – ситро, сладкая вата и билеты в цирк-шапито.
Мы направились обратно к центру города.
– А вот, наконец, и главное здание, – продолжал я знакомить генерала с Царицыным. – Общественное Собрание! Сюда мне удалось попасть лишь однажды в сентябре 1909-го. Пел сам Шаляпин! А там далее синематограф, городская библиотека, народная читальня и книжная лавка госпожи Абалаковой, где я также тратил свои гимназические накопления. Слева – училище Русского Музыкального Общества, Дом Науки и Искусств с уездным музеем и, наконец, метеорологическая станция, куда нас водили на уроки естествознания.
– Признаюсь, господин Истомин, весьма приятный город! – восхитился генерал.
С наступлением дня улицы постепенно оживали. На базарчиках торговцы готовили латки.
– М-да, разительное отличие от голодной Москвы! – вздохнул Снесарев.
Постепенно улицы наполнялись людьми. Распахивались окна, раздвигались вышитые занавески и просматривались чистые квартирки обывателей. Ничего не изменилось после моего отъезда! Ни одного признака гражданской войны и новой власти. О нет! В авто, поднимая тучи пыли, промчался комиссар в неизменной кожаной куртке, перепоясанной ремнями, и в кепке с красной звездой.
– Кажется, власти начинают ехать на работу. Давайте дадим им ещё немного времени и пойдём знакомиться и обустраиваться. Полковник Носович со штабом, думаю, уже расквартировались, – произнес генерал, провожая взглядом уезжавшее авто.
Мы уселись на лавочке в парке. На деревянной сцене появились музыканты и заиграла музыка. Стали приходить пары – дамы с зонтиками в сопровождении офицеров в царской форме.
– Отчего-то приятно видеть, что не один я ношу мундир, – заметил Снесарев.
Улицы стали наполняться красноармейцами. Я обратил внимание, что все они неряшливо одеты, на вид полуголодные и, казалось, бесцельно шатаются по городу. Подходят к торговым латкам, якобы прицениваются, но видно, что денег нет, а потому пытаются выпросить товар даром.
– Пожалуй, пора! – скомандовал генерал.
Встаём со скамейки и тут нам навстречу выбегает атлетического вида господин в спортивном костюме. Коротко стриженые волосы и огромные голубые глаза, взгляд живой и упрямый. Тренированное тело выдаёт в нём спортсмена со стажем. Господин замечает нас, останавливается и лицо его расплывается огромной искренней улыбкой самодовольного, знающего себе цену человека.
– Андрей Евгеньевич! С приездом!
– Здравствуйте, Анатолий Леонидович!
Оба крепко обнимаются и рассматривают друг друга, как давние приятели, не видевшиеся какое-то время.
– Вот где теперь нам с Вами придётся служить! – Снесарев был явно восхищен отменной физической формой собеседника. – А Вы всё такой же спортсмен! Бег, фехтование, плавание, стрельба, английский бокс… Я ничего не запамятовал? Ах да, и всенепременно танцы. Губную гармошку с собой взяли?
Анатолий Леонидович не сводил с генерала счастливого взгляда, а улыбка так и застыла на его лице.
– Конечно! Omnia mea mecum porto! Всё своё ношу с собой! И гармошку, и физическую форму. Офицер всегда должен быть в лучшей форме во славу Отечества! Пока только успел искупаться в реке. Теперь вот утренняя пробежка. А вода в реке бодрящая, свежая, что надо! С танцами, уверен, здесь никак. Большевики не планируют балы, – рассмеялся Анатолий Леонидович.
– Здесь говорят исключительно Волга. Не река. Наш новый сослуживец меня поправил. Кстати, царицынец!
– А, так это и есть Ваш новый адъютант, из-за которого задержались в Москве?
– Бывший унтер-офицер кавалерии Истомин Станислав Демидович, – представляюсь я.
– Полковник Носович, начальник штаба округа.
Носович крепко пожал мне руку.
– Отчего же бывший? Вас что разжаловали или отправили в отставку в родительское поместье?
– Императорской армии больше нет, а следовательно, мы все бывшие офицеры, – ответил я.
Вдруг лицо Носовича сделалось упрямым, взгляд твёрдым, а мышцы напряглись.
– Пути Господни неисповедимы, унтер-офицер. Бывали на германском фронте?
– Приходилось.
– Отменно! Значит, есть боевой опыт. Здесь он несомненно пригодится. И мы с Андреем Евгеньевичем воевали против немцев. Я командовал 466-го Малмыжским пехотным полком, а генерал-лейтенант 64-й пехотной дивизией. Я правильно помню, Андрей Евгеньевич?
– Не юлите, полковник. Или как всегда, напрашиваетесь на комплимент? У Вас иключительная память!
Носович вновь расхохотался.
– Я был студентом у генерала Снесарева. В Николаевском кавалерийском училище, – признался я.
Снесарев вопросительно посмотрел на меня.
– Вот как? Что же Вы до сих пор молчали?
– Думал, может, вспомните. Вы нам преподавали военную географию.
– Похоже, у нас собирается отменная компания! – подвёл итог Носович.
– Евгения Васильевна с Вами? – спросил Снесарев.
– Всенепременно! Omnia mea mecum porto! Ковалевский тоже привез своё семейство. Ну, идёмте же! Покажу наши квартиры.
Жилище новых штабистов располагалось в трёхэтажном купеческом доме в самом центре города.
– Господа, спуститесь в салон! Андрей Евгеньевич прибыли! – громогласно объявил Носович и заварил чай. – Спят долго, лентяи.
– Ну что, все в сборе? Андрей Евгеньевич, Вы, конечно же, знаете сего проказника. Посему представлю его только Вам, господин Истомин, – полковник Александр Николаевич Ковалевский с супругой. Прошу любить и баловать. Дети ещё спят? Александр Николаевич – мой давний друг, сослуживец и однокурсник по академии Генштаба 1910-го года выпуска. А вот полковник Чебышев и его заместитель полковник Сухотин. Мои адъютанты Тарасенков, Садковский и Кремков. Кстати, поручик, что за фото милой домы у Вас в спальне?
Кремков явно смутился и не ответил.
– И наконец, очаровательнейшая госпожа Старикова. Не удивляйтесь, мой друг, не супруга одного из нас. Штабист! Начальник хозяйственного управления. Ну-с! Попьём чаю и строевым маршем в совдепию! – рассмеялся Носович. – Пардон, господа, к местному начальству.
На стене у входа в здание висела табличка. Желтой краской на красном фоне аккуратно выведена надпись «Штаб Южного Округа Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Стоит неопрятно одетый, уставший часовой. Увидев нас, винтовкой перекрыл вход. Снесарев протянул ему документы.
– Военный руководитель округа Снесарев. А это мой штаб, – показал он на нас. – Только что прибыли.