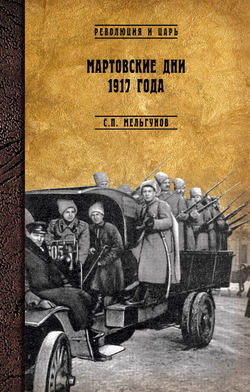Читать книгу Мартовские дни 1917 года - Сергей Мельгунов - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Решающая ночь2
I. Среди советской демократии
1. Тактическое банкротство
ОглавлениеПо чьей инициативе начались переговоры. Представитель крайнего течения, большевик Шляпников, определенно утверждает, что Исп. Ком. стал обсуждать вопрос о конструкции власти по «официальному предложению» со стороны Комитета Гос. Думы. Противоположную версию устанавливает другой представитель «революционной демократии», Суханов, не принадлежавший к группе лиц, входящих в ленинскую фалангу; понимая, что «проблема власти» – основная в революции, именно он настаивал на обсуждении ее в Исп. Ком., и по его инициативе возникла мысль о необходимости вступить в переговоры с представителями «цензовой общественности». Версия Суханова, как увидим, более достоверна6, хотя Стеклов, официальный докладчик Исп. Ком. на Совещании Советов 30 марта, дававший через месяц отчет перед собранием и рассказавший историю «переговоров», развивал то же положение, что и Шляпников: думский-де Комитет начал переговоры «по собственной инициативе» и вел их с советскими представителями, как с «равноправной политической стороной».
Так или иначе вопрос об организации власти подвергся обсуждению в Исп. Комитете днем 1 марта – вернее урывками происходил довольно случайный и бессистемный обмен мнений по этому поводу, так как текущие вопросы («куча вермишели», по выражению Суханова) постоянно отвлекали внимание. Беседы происходили, как утверждает Шляпников, в связи с сообщением Чхеидзе, что Врем. Комитет, взяв на себя почин организации власти, не может составить правительство без вхождения в него «представителей левых партий». Намечались три течения: одно из них (согласно традиционной догме) отвергало участие социалистов во власти в период так называемой «буржуазной» революции; другое (крайнее) требовало взять управление в свои руки; третье настаивало на соглашении с «цензовыми элементами», т.е. споры шли по схеме: власть буржуазная, коалиционная или демократическая (социалистическая). В 6-м часу Исп. Ком. вплотную подошел к разрешению проблемы власти и даже подверг вопрос баллотировке, причем 13 голосами против 7 или 8 постановил не входить в цензовое правительство.
Впоследствии была выдвинута стройная теоретическая схема аргументаций, объяснявшая, почему демократия, которой якобы фактически принадлежала власть в первые дни революции в Петербурге, отказалась от выполнения павшей на нее миссии. Такую попытку сделал Суханов в «Записках о революции». Другой представитель «советской демократии», Чернов, непосредственно не участвовавший еще в то время в революционных событиях, касаясь в своей исторической работе «Рождение революционной России» решения передать власть «цензовой» демократии, не без основания замечает, что в данном случае победила «не теория, не доктрина», а «непосредственное ощущение обузы власти» и желание свалить эту обузу под соусом теоретического обоснования на «плечи цензовиков». Пять причин, побуждавших к такому действию и свидетельствовавших об отсутствии «политической зрелости» и о «тактическом банкротстве» руководящего ядра, исчисляет Чернов: 1. Не хватало программного единодушия. 2. Цензовая демократия была налицо «во всеоружии всех своих духовных и политических ресурсов», революционная же демократия была представлена на месте действия случайными элементами, «силами далеко не первого, часто даже и не второго, а третьего, четвертого и пятого калибра». Самые квалифицированные силы революционной демократии находились в далекой ссылке или в еще более далеком изгнании. 3. У цензовиков были «всероссийские имена», руководители же революционной демократии за немногими исключениями являлись «для широкого общественного мнения загадочными незнакомцами», о которых враги могли «распространять какие угодно легенды». 4. Крупнейшие деятели рев. демократии были «абсолютно незнакомы с техникою государственного управления и аппаратом его», и «прыжок из заброшенного сибирского улуса или колонии изгнанников в Женеве на скамьи правительства был для них сходен – с переселением на другую планету». 5. «Буржуазные партии» имели за собой свыше десяти лет открытого существования и устойчивой, гласной организации – трудовые, социалистические и революционные партии держались почти всегда лишь на голом скелете кадров «профессиональных революционеров».
Пространную аргументацию несколько кичливых представителей эмигрантских «штабов»7 – подобную же аргументацию развивает и Троцкий в «Истории русской революции» – можно было бы кратко подытожить словами Милюкова на упомянутом митинге 2 марта в Екатерининском зале Таврического дворца, когда бывший лидер думской оппозиции с большим преувеличением говорил о единственно организованной «цензовой общественности». Во всех этих соображениях имеется, конечно, доля истины, но все они аннулировались в тот момент аргументом, который представляло собой настроение масс и сочувствие последних революционным партиям. «Престиж Думы» был огромен, несравним с вожаками левых, известных лишь в узком круге, – усиленно подчеркивает и Маклаков, а между тем для успокоения революционной стихии имело огромное значение вхождение именно Керенского в состав Временного правительства, причем играло роль само по себе не имя депутата, а его принадлежность к революционной демократии. Оспаривать этот факт не приходится, так как сама военная власть с мест, где разбушевалась стихия, систематически взывала в первые дни к новой власти и требовала прибытия Керенского. Неоспоримо, что правительство, составленное из наличных членов Исп. Ком., было бы весьма неавторитетно, но почти столь же неоспоримо, что революционная общественность могла бы составить такое правительство из имен более или менее «всероссийских», которое имело бы в те дни, быть может, больше влияния, чем случайно составленное и не соответствовавшее моменту «Временное правительство», которое приняло бразды правления в революционное время8.
Основная причина «передачи» власти цензовым элементам, или, вернее, отказ от каких-либо самостоятельных попыток создать однородное демократическо-социалистическое правительство, лежала не в сознании непосильной для демократии «обузы власти», а в полной еще неуверенности в завтрашнем дне. В этом откровенно признавался впоследствии в Совещании Советов докладчик о «временном правительстве» Стеклов – один из тех, кто непосредственно участвовал в ночных переговорах 1—2 марта: «…когда намечалось… соглашение, было совсем неясно, восторжествует ли революция не только в форме революционно-демократической, но даже в форме умеренно-буржуазной. Вы… которые не были здесь, в Петрограде, и не переживали этой революционной горячки, представить себе не можете, как мы жили: окруженные вокруг Думы отдельными солдатскими взводами, не имеющими даже унтер-офицеров, не успевши еще сформировать никакой политической программы движения… Нам не было известно настроение войск вообще, настроение Царскосельского гарнизона, и имелись сведения, что они идут на нас. Мы получали слухи, что с севера идут пять полков, что ген. Иванов ведет 26 эшелонов, на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что эта слабая группа, окружавшая дворец, будет разбита, и с минуты на минуту ждали, что вот придут, и если не расстреляют, то заберут нас. Мы же, как древние римляне, важно сидели и заседали, но полной уверенности в успехе революции в этот момент совершенно не было».
Слишком легко после того как события произошли, отвергнуть этот психологический момент и утверждать, что «царизм» распался, как карточный домик, что режим, сгнивший на корню, никакого сопротивления не мог оказать, что «военный разгром революции был немыслим». Дело, конечно, было не так. Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления. Это почти «социологический» закон. У революции 17 года не было организованной реальной военной силы. Все участники революции согласны с тем, что цитадель революции – Таврический дворец – была в первые дни беззащитна. В ночь на 28 февраля находившиеся в Гос. Думе фактически не располагали ни одним ружьем – признает Керенский (La Verite). Имевшееся артиллерийское орудие было без снарядов, бездейственны были и пулеметы (Мстиславский). Потому так легко возникала паника в стенах Таврического дворца – и не только в первый день, как о том свидетельствуют мемуаристы: достаточно было дойти неверному слуху о сосредоточении в Академии Генеральн. Штаба 300 офицеров, вооруженных пулеметами, с целью нападения на революционную цитадель. Казалось, что небольшая организованная воинская часть без труда ликвидирует восстание или по крайней мере его внешний центр9. И если такой части не нашлось, то это объясняется не одной растерянностью разложившейся власти, а и тем, что уличное неорганизованное движение в критический момент оказалось сцеплено с Государственной Думой – поднять вооруженную руку против народного представительства психологически было уже труднее, учитывая то обстоятельство, что во время войны армия превратилась в сущности в «вооруженный народ», как то неоднократно признавалось в самом правительстве (см., напр., суждения в Совете министров в 15 году). Война парализовала в значительной степени волю к противодействию, и Суханов совершенно прав, утверждая, что Комитет Гос. Думы служил «довольно надежным прикрытием от царистской контрреволюции», отсюда рождалось впечатление, что власть «явно запускала движение», и подтверждалась распространенная легенда о «провокации».
Если в Петербурге 1 марта, когда решался вопрос о власти, переворот закончился уже победоносно, то оставалось еще неизвестным, как на столичные события реагирует страна и фронт. Керенский, не очень следящий за своими словами, в одной из последних книг (La Verite) писал, что к ночи 28-го вся страна с армией присоединилась к революции. Это можно еще с оговоркой сказать о второй столице Империи, где ночью 28-го было уже принято обращение Городской Думы к населению, говорившее, что «ради победы и спасения России Госуд. Дума вступила на путь решительной борьбы со старым и пагубным для нашей родины строем». Но народ, который должен был фактически устранить «от власти тех, кто защищал старый порядок, постыдное дело измены», 1 марта в сущности стал лишь «готовиться к бою», как выражается в своих воспоминаниях непосредственный наблюдатель событий, будущий комиссар градоначальства с.-р. Вознесенский. Полное бездействие власти под начальством ген. Мрозовского определило успех революции и ее бескровность: три солдата и рабочий – такова цифра жертв восстания в Москве… В матери русских городов – Киеве, где узнали о перевороте лишь 3-го и где в этот день газеты все же вышли с обычными «белыми местами», еще первого был арестован по ордеру губ. жанд. управления старый народоволец, отставн. полк. Оберучев, вернувшийся из эмиграции в середине февраля «на родину». Во многих губерниях центра России (Ярославль, Тула и др.) движение началось 3-го. Жители Херсона даже 5 марта могли читать воззвание губернатора Червинского о народных беспорядках в Петербурге, прекращенных Родзянко в «пользу армии, Государя и отечества». На фронт весть о революции, естественно, пришла еще позже – во многих местах 5—6 марта; об отречении Императора на некоторых отдельных участках узнали лишь в середине месяца. Местечковый еврей, задавший в это время одному из мемуаристов (Квашко) вопрос: «а царя действительно больше нет, или это только выдумка», – вероятно, не был одинок. В захолустье сведения о происшедших событиях кое-где проникли лишь к концу месяца. Для иностранных читателей может быть убедительно свидетельство Керенского, что на всем протяжении Империи не нашлось ни одной части, которую фактически можно было двинуть против мятежной столицы, то же, конечно, говорит и Троцкий в своей «Истории революции». Но это малоубедительно для русского современника, знающего, что фронтовая масса и значительная часть провинции о событиях были осведомлены лишь после их завершения.
Чернов делает поправку (то же утверждение найдем мы и в воспоминаниях Гучкова): войсковую часть можно было отыскать на фронте, но посылка ее не достигла бы цели, ибо войска, приходившие в Петербург, переходили на сторону народа. Но это только предположение, весьма вероятное в создавшейся обстановке, но все-таки фактически неверное, вопреки установившейся версии, даже в отношении того немногочисленного отряда, который дошел до Царского Села во главе с ген. Ивановым к вечеру 1 марта10. Большевистские историки желают доказать, что «демократия», из которой они себя выделяют, отступила на вторые позиции не из страха, возможности разгрома, революции, а в силу паники перед стихийной революционностью масс: в первые дни – вспоминает большевизанствующий с.-р. Мстиславский – «до гадливости» чувствовалось, как «верховники» из Исп. Ком. боялись толпы11. Бесспорно, страх перед неорганизованной стихией должен был охватывать людей, хоть сколько-нибудь ответственных за свои действия и не принадлежавших к лагерю безоговорочных «пораженцев», ибо неорганизованная стихия, безголовая революция, легко могла перейти в анархию, которая не только увеличила бы силу сопротивления режима, но и неизбежно порождала бы контрреволюционное движение страны во имя сохранения государственности и во избежание разгрома на внешнем фронте.
Керенский, быть может, несколько преувеличивая свои личные ощущения первых дней революции, объективно прав, указывая, что никто не ожидал произошедшего хаоса, и у всех была только одна мысль, как спасти страну от быстро наступающей анархии. Элементарный здравый смысл заставлял демократию приветствовать решение Временного Комитета взять на себя ответственную роль в происходивших событиях и придать стихийному движению характер «революции», ибо история устанавливала и другой «социологический закон», в свое время в таких словах формулированный не кем иным, как Лениным: «Для наступления революции недостаточно, чтобы “низы не хотели”, требуется, чтобы и “верхи не могли” жить по-старому», т.е. «революционное опьянение», как выразился Витте в воспоминаниях, должно охватить и командующий класс. Витте довольно цинично называл это «умственной чесоткой» и либеральным «ожирением» интеллигентной части общества, доказывая, что «революционное опьянение» вызывает отнюдь не «голод, холод, нищета», которыми сопровождается жизнь 100-миллионного непривилегированного русского народа. В одном старый бюрократ был прав: «главным диктатором» революции не является «голодный желудок» – этот традиционный предрассудок, как нежизненный постулат, пора давно отбросить. Голод порождает лишь бунт, которому действительно обычно уготован один конец: «самоистребление». Алданов справедливо заметил, что о «продовольственных затруднениях» в Петербурге, в качестве «причин революции», историку после 1920 года писать «будет неловко». Мотив этот выдвигался экономистами в начале революции (напр., доклад Громана в Исп. Ком. 16 марта); в позднейшей литературе, пожалуй, один только Чернов все еще поддерживает версию, что на улицу рабочих вывел «Царь-Голод», – впрочем, весьма относительный: сообщение градоначальника командующему войсками 23 февраля считало причиной беспорядков еще только слух, что будут отпускать 1 ф. хлеба взрослому и полфунта на малолетних.
Ленин, который все всегда знал заранее на девять десятых, утверждал после революции, еще в дни пребывания за границей, что буржуазия нужна была лишь для того, чтобы «революция победила в 8 дней»12.
Мемуаристы противоположного лагеря с той же убедительностью доказывают легкую возможность разгрома революции при наличности некоторых условий, которых в действительности по тем или другим причинам не оказалось. «Революция победила в 8 дней» потому, что страна как бы слилась в едином порыве и общности настроений, – столичный бунт превратился во «всенародное движение», показавшее, что старый порядок был уже для России политическим анахронизмом, и тогда (после завершения переворота) в стихийности революции начали усматривать гаранты незыблемой ее прочности (речь Гучкова 8 марта у промышленников).
В историческом аспекте можно признать, что современники в предреволюционные дни недооценивали сдвига, который произошел в стране за годы войны под воздействием оппозиционной критики Гос. Думы, привившей мысль, что национальной судьбе России при старом режиме грозит опасность, что старая власть, «безучастная к судьбе родины и погрязшая в позоре порока… бесповоротно отгородилась от интересов народа, на каждом шагу принося их в жертву безумным порывам произвола и самовластия» (из передовой статьи «Рус. Вед.» 7 марта). В политической близорукости, быть может, повинны все общественные группировки, но от признания этого факта нисколько не изменяется суть дела: февральские события в Петербурге, их размах, отклик на них и итог оказались решительно для всех неожиданными – «девятый вал», по признанно Мякотина (в первом публичном выступлении после революции), пришел тогда, «когда о нем думали меньше всего». Теоретически о грядущей революции всегда говорили много – и в левых, и в правых, и в промежуточных, либеральных кругах. Предреволюционные донесения агентуры Департамента полиции и записи современников полны таких предвидений и пророчеств – некоторым из них нельзя отказать в прозорливости, настолько они совпали с тем, что фактически произошло. В действительности же подобные предвидения не выходили за пределы абстрактных расчетов и субъективных ощущений того, что Россия должна стоять «на пороге великих событий». Это одинаково касается как предсказаний в 16 году некоего писца Александро-Невской лавры, зарегистрированных в показаниях филеров, которые опекали Распутина, так и предвидений политиков и социологов. Если циммервальдец Суханов был убежден, что «мировая социальная революция не может не увенчать собой мировой империалистической войны», то его прогнозы в сущности лежали в той же плоскости, что и размышления в часы бессонницы в августе 14 года вел. кн. Ник. Мих., записавшего в дневник: «К чему затеяли эту убийственную войну, каковы будут ее конечные результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах произойдут громадные перевороты, мне мнится конец многих монархий и триумф всемирного социализма, который должен взять верх, ибо всегда высказывался против войны». Писательница Гиппиус занесла в дневник 3 октября 16 года: «Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и не ужасно ли? – никто не знает об этом». (Предусмотрительность часто появляется в опубликованных дневниках post factum.) Во всяком случае, не думали, потому что вопрос этот в конкретной постановке в сознании огромного большинства современников не был актуален, – и близость революции исчислялась не днями и даже не месяцами, а может быть, «годами». Говорили о «революции» после войны – (Шкловский). Даже всевидящий Ленин, считавший, что «всемирная империалистическая война» является «всесветным режиссером, который может ускорить революцию» («Письма издалека»), за два месяца до революции в одном из своих докладов в Цюрихе сделал обмолвку: «Мы, старики, быть может, до грядущей революции не доживем». По наблюдениям французского журналиста Анэ, каждый русский предсказывал революцию на следующий год, в сущности не веря своим предсказаниям. Эти общественные толки, поднимавшиеся до аристократических и придворных кругов, надо отнести в область простой разговорной словесности, конечно, показательной для общественных настроений и создавшей психологию ожидания чего-то фатально неизбежного через какой-то неопределенный промежуток времени.
Ожидание нового катаклизма являлось доминирующим настроением в самых различных общественных кругах – и «левых» и «правых», после завершения «великой русской революции», как «сгоряча» окрестили 1905 год. Россию ждет «революция бесповоротная и ужасная» – положение это красной нитью проходит через перлюстрированную Департаментом полиции частную переписку (мы имеем опубликованный отчет, напр., за 1908 г.). Человек весьма консервативных политических убеждений, харьковский проф. Вязигин писал: «Самые черные дни у нас еще впереди, а мы быстрыми шагами несемся к пропасти». Ему вторит политик умеренных взглядов, член Гос. Сов. Шипов: «родина приближается к пропасти»… «предстоящая неизбежная революция легко может вылиться в форму пугачевщины». И все-таки Шипов, путем размышления, готов признать, что «теперь чем хуже, тем лучше», ибо «чем скорее грянет этот гром, тем менее он будет страшен и опасен». И более левый Петрункевич хоть и признает, что наступила «полная агония» правительственной власти, что «теперь борьба демократизировалась в самом дурном смысле», что «выступили на арену борьбы необузданные и дикие силы», однако все это, по его мнению, свидетельствует, что «мы живем не на кладбище». «Будущее в наших руках, если не впадет в прострацию само общество», – успокаивает редактор «Рус. Вед.» Соболевский сомневающегося своего товарища по работе проф. Анучина и т.д. И очень часто в переписке государственных деятелей, ученых и простых обывателей, с которой ознакамливались перлюстраторы, звучит мотив: «вряд ли без внешнего толчка что-нибудь будет». В кругах той либерально-консервативной интеллигенции, которая под водительством думского прогрессивного блока претендовала на преемственность власти при новых парламентских комбинациях, ожидание революции, вышедшей из недр народной толщи и рисовавшейся своим радикальным разрешением накопившихся социальных противоречий какой-то новой «пугачевщиной», «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», по выражению еще Пушкина, носило еще менее реалистические формы. Революционный жупел, поскольку он выявлялся с кафедры Гос. Думы, здесь был приемом своего рода педагогического воздействия на верховную власть в целях принудить ее капитулировать перед общественными требованиями. В действительности мало кто верил, что то, «чего все опасаются», может случиться, и в интимных разговорах, отмечаемых агентами Департамента полиции (и не только ими), ожидаемая революция заменялась «почти бескровным» дворцовым переворотом – до него в представлении оппозиционных думских политиков оставалось «всего лишь несколько месяцев», даже, может быть, несколько недель.
6
Надо иметь в виду, что Шляпников в эти дни работал в значительной степени на периферии и был поглощен текущей работой (непосредственным участием в «боевом» действии и мало интересовался вопросом, что из «этого выйдет»). Последовательный «революцюнизм» мешал ему, уже в качестве мемуариста, признать инициативу, исходившую от советских кругов.
7
Надо признать, что появление на исторической авансцене представителей политической эмиграции – «людей знания», которых на мартовском съезде к.-д. приветствовал фактический вождь тогдашней «цензовой общественности», – ничего положительного революции не дало: слишком оторвались они от реальной русской жизни.
8
Вопрос о техническом правительственном аппарате не так уже неразрешим на практике. В 18 г. немцы разрешили его просто, создав при социалистическом кабинете «управляющих делами» – Fachminister.
9
Таково же было ощущение и в Москве. Первый председатель Совета Хинчук в своих воспоминаниях попытку посеять панику приписывает «храбрым» интеллигентным «вождям» из Комитета общ. организаций и полученным сведениям о наступлении Эверта с Зап. фронта, и противопоставляет растерянность «общественников» уверенности рабочих, опиравшихся на то, что «воинские части группами, полным составом» отдавали себя в распоряжение Совета. Старый большевик, Смидович сделал по этому поводу примечание: «Ничего подобного не было. Еще около недели в нашем распоряжении были только тысячи полторы сброда (большинство без винтовок) да пара пушек без снарядов, кажется, без замков».
10
Легенду эту породило неверное сообщение, полученное председателем Думы Родзянко и сообщенное им ген. Рузскому на Северном фронте.
11
Для характеристики искренности мемуариста, которому 27-го «и пойти было некуда» (столь неожиданна для него была нарастающая февральская волна), можно привести такую выдержку из записи Гиппиус 1 марта: «По рассказам Бори (т.е. Андрея Белого), видевшего вчера и Масловского и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммуны» и боятся стихии и крайности».
12
Слова Ленина на апрельской конференции 17 г. У Ленина издалека составилось весьма своеобразное представление о ходе революции, оно совершенно не соответствовало истинному положению дел. Он писал в своих «Письмах издалека», напечатанных в «Правде»: «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций: «актеры» знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических настроений и приемов действия».