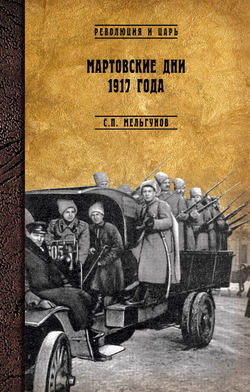Читать книгу Мартовские дни 1917 года - Сергей Мельгунов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Решающая ночь2
II. В рядах цензовой общественности
4. Настроения первого марта
ОглавлениеПосле крушения «самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной» революции (так восторженно отзывался прибывший в Россию французский социалист министр Тома), после того как в густом тумане, застлавшем политические горизонты, зашло «солнце мартовской революции», многие из участников ее не любят вспоминать о том «опьянении», которое охватило их в первые дни «свободы», когда произошло «историческое чудо», именовавшееся февральским переворотом. «Оно очистило и просветило нас самих», – писал Струве в № 1 своего еженедельника «Русская Свобода». Это не помешало Струве в позднейших размышлениях о революции сказать, что «русская революция подстроена и задумана Германией». «Восьмым чудом света» назвала революцию в первой статье и «Речь». Епископ уфимский Андрей (Ухтомский) говорил, что в эти дни «совершился суд Божий». Обновленная душа с «необузданной радостью» спешила инстинктивно вовне проявить свои чувства, и уже 28-го, когда судьба революции совсем еще не была решена, улицы Петербурга переполнились тревожно ликующей толпой, не отдававшей себе отчета о завтрашнем дне41. В эти дни «многие целовались» – скажет левый Шкловский. «Незнакомые люди поздравляли друг друга на улицах, христосовались, будто на Пасху», – вспоминает в «Былом» Кельсон. Таково впечатление и инженера Ломоносова: «В воздухе что-то праздничное, как на Пасху». «Хорошее, радостное и дружное» настроение, – отмечает не очень лево настроенный депутат кн. Мансырев. У всех было «праздничное настроение», – по характеристике будущего члена Церковного Собора Руднева, человека умеренно правых взглядов. Также «безоглядно и искренно» все радовались кругом бывш. прокурора Судебной палаты Завадского. «Я никогда не видел сразу в таком количестве столько счастливых людей. Все были именинниками», – пишет толстовец Булгаков42. Всегда несколько скептически настроенная Гиппиус в «незабвенное утро» 1 марта, когда к Думе текла «лавина войск» – «стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой», видела в толпе все «милые, радостные, верящие лица». Таких свидетельств можно привести немало, начиная с отклика еще полудетского в дневнике Пташкиной, назвавшей мартовские дни «весенним праздником». Это вовсе не было «дикое веселье рабов, утративших страх», как определял ген. Врангель настроение массы в первые дни революции. И, очевидно, соответствующее опьянение наблюдалось не только в толпе, «влюбленной в свободу» и напоминавшей Рудневу «тетеревов на току». Известный московский адвокат, видный член центральн. комитета партии к. д., польский общественный деятель Ледницкий рассказывал, напр., в Московской Думе 2 марта о тех «счастливых днях», которые он провел в Петербурге. Москвичи сами у себя находились в состоянии не менее радужном: «ангелы поют в небесах» – определяла Гиппиус в дневнике тон московских газет. На вопрос из Ставки представителя управления передвижением войск полк. Ахшарумова 2 марта в 11 час. о настроении в Москве – жителей и войск, комендант ст. Москва-Александровская без всяких колебаний отвечал: «настроение прекрасное, все ликуют». В этом всеобщем ликовании – и повсеместном в стране – была вся реальная сила февральского взрыва43. Очевидно, ликовали не только «определенно левые», как пытался впоследствии утверждать знаменитый адвокат Карабчевский. Недаром, по утверждению Вл. Львова, даже Пуришкевич в дни «мартовского ликования» ходил с «красной гвоздичкой».
Конечно, были и пессимисты – и в среде не только деятелей исчезавшего режима. Трудовик Станкевич, определявший свое отношение к событиям формулой: «через десять лет будет хорошо, а теперь – через неделю немцы будут в Петрограде», склонен утверждать, что «такие настроения были, в сущности, главенствующими… Официально торжествовали, славословили революцию, кричали “ура” борцам за свободу, украшали себя красным бантом и ходили под красными знаменами… Но в душе, в разговорах наедине, – ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то невидимым путем… Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния». Такая обобщающая характеристика лишена реального основания. Смело можно утверждать, что отдельные голоса – может быть, даже многочисленные – тонули в общей атмосфере повышенного оптимизма. Ограничения, пожалуй, надо ввести, – как мы увидим, только в отношении лиц, ответственных за внешний фронт, – и то очень относительно. Не забудем, что ген. Алексеев, столь решительно выступавший на Моск. Гос. Сов., все же говорил о «светлых, ясных днях революции».
«Широкие массы легко поддавались на удочку всенародного братства в первые дни» – признает историк-коммунист Шляпников.
Пусть это «медовое благолепие» первых дней, «опьянение всеобщим братанием», свойственным «по законам Маркса», всем революциям, будет только, как предсказывал не сентиментальный Ленин, «временной болезнью», факт остается фактом, и этот факт накладывал своеобразный отпечаток на февральско-мартовские дни. И можно думать, что будущий член Временного правительства, первый революционный синодский обер-прокурор Вл. Львов искренне «плакал», наблюдая 28-го «торжественную картину» подходивших к Государ. Думе полков со знаменами. «Плакали», по его словам, и солдаты, слушавшие его слащавую речь: «Братцы! да здравствует среди нас единство, братство, равенство и свобода», – речь, которая казалась реалистически мыслящему Набокову совершенно пустой. Однако окружавшая обстановка победила первоначальный скептицизм Набокова, просидевшего дома весь первый день революции, и он сам почувствовал 28-го тот подъем, который уже рассеян был в атмосфере. Это было проявление того чувства имитативности, почти физического стремления слиться с массой и быть заодно с ней, которое может быть названо революционным психозом.
Колебания и сомнения должны были проявляться в среде тех, кто должен был «стать на первое место», конечно, гораздо в большей степени, нежели в обывательской безответственной интеллигентной массе. Допустим, что прав французский журналист Анэ, посещавший по несколько раз в день Думу и писавший в статьях, направляемых в «Petit Parisien»44, что «члены Думы не скрывают своей тоски». И тем не менее всеобщего гипноза не мог избежать и думский комитет. Поэтому атмосфера ночных переговоров, обрисованная в тонах Шульгина, не могла соответствовать действительности. Ведь трудно себе даже представить через тридцать лет, что в заключительной стадии этих переговоров столь чуждый революционному экстазу Милюков расцеловался со Стекловым – так, по крайней мере, со слов Стеклова рассказывает Суханов45. Симптомы политических разногласий двух группировок, конечно, были налицо: их отмечала телеграмма, посланная главным морским штабом (гр. Капнистом) первого марта в Ставку (адм. Русину) и помеченная 5 час. 35 мин. дня: «…Порядок налаживается с большим трудом. Есть опасность возможности раскола в самом Комитете Г.Д. и выделения в особую группу крайних левых революционных партий и Совета Раб. Деп.», но эти разногласия в указанной обстановке вовсе не предуказывали еще неизбежность разрыва и столкновения, на что возлагала свои надежды имп. Алек. Фед. в письме к мужу 2 марта: «Два течения – Дума и революционеры – две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу голову, – это спасло бы положение».
Надо признать довольно бесплодной попытку учесть сравнительно удельный вес того и другого революционного центра в условиях уличных волнений первых дней революции – и совершенно бесплодна такая попытка со стороны лиц, не проникавших по своему положению в самую гущу тогдашних настроений массового столичного жителя и солдатской толпы. Талантливый мемуарист проф. Завадский совершенно уверен, что звезда «примостившегося» к Гос. Думе Совета Раб. Деп. «меркла в первое время в лучах думского комитета» и что «временный комитет Думы обладал тогда такою полнотою власти духовной и физической, что без существенных затруднений мог взять под стражу членов советских комитетов». Такие слишком субъективные позднейшие оценки (Завадский ссылается на «впечатление многих уравновешенных» и, на его взгляд, «не глупых людей») не имеют большого исторического значения уже потому, что этот вопрос просто не мог тогда возникнуть в сознании действовавших лиц – и не только даже в силу отмеченных идеалистических настроений. По утверждению Шульгина подобная мысль не могла прийти в голову уже потому, что в распоряжении Комитета не было никаких «вооруженных людей»46. По позднейшему признанию Энгельгардта, сделанному Куропаткину в мае, он был «хозяином лишь первые шесть часов». Лишь очень поверхностному и случайному наблюдателю могло казаться, что весь Петербург в руках комитета Гос. Думы. Так докладывал 2-го прибывший в Москву в исключительно оптимистическом настроении думский депутат, член партии к. д., проф. Новиков (это отметил № 3 Бюллетеня Ком. Общ. Организ.). «Спасти русскую государственность», как несколько высокопарно выражается Керенский, Врем. Ком. без содействия Совета было крайне трудно. Совет, по своему составу естественно стоявший в большой непосредственной близости к низам населения, легче мог влиять на уличную толпу и вносить некоторый «революционный» порядок в хаос и стихию. Отрицать такое организующее начало Совета в первые дни может только тот, кто в своем предубеждении не желает считаться с фактами47. Подобное сознание неизбежно само по себе заставляло избегать столкновения и толкало на сотрудничество. Также очевидно было и то, что без активного содействия со стороны Совета думский комитет, связавший свою судьбу, судьбу войны и страны с мятежом, не мог бы отразить подавление революции, если бы извне сорганизовалась такая контрреволюционная правительственная сила. А в ночь с 1-го на 2-е марта для Временного Комитета совершенно неясно было, чем закончится поход ген. Иванова, лишь смутные и противоречивые сведения о котором доходили до Петербурга. Довольно показательно, что именно по инициативе Милюкова в согласительную декларацию от Совета, выработанную в ночном совещании, было введено указание на то, что «не устранена еще опасность военного движения» против революции. Эта опасность служила не раз темой для речей Милюкова, обращенных к приходившим в Таврический дворец воинским частям. Так, напр., по тогдашней записи 28-го лидер думского комитета, обращаясь к лейб-гренадерам, говорил: «Помните, что враг не дремлет и готов стереть нас с вами с лица земли»48. Вероятно, в ночь на второе отсутствовавший на переговорах Гучков, кандидат в военное министерство и руководитель военной комиссии Врем. Ком., пытался если не организовать защиту, как утверждал в своей речи 2-го Милюков, то выяснить положение дел со стороны возможной обороны. Надо было обезвредить Иванова и избежать гражданской войны.
Неопределенная обстановка, вопреки всем схемам и теоретическим предпосылкам, накладывала и во Временном Комитете отпечаток на переговоры, которые велись с ним от имени Исп. Ком. Совета. Этот отпечаток довольно ясно можно передать записью в дневнике Гиппиус, помеченной 11 час. 1-го марта: «Весь вопрос в эту минуту: будет ли создана власть или не будет. Совершенно понятно, что… ни один из Комитетов, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье…» «Нужно согласиться, – записывает перед тем писательница, – и не через 3 ночи, а именно в эту ночь». «Вожаки Совета» и «думские комитетчики» «обязаны итти на уступки»… «Безвыходно, они понимают»… «Положение безумно острое». По записям Гиппиус, сделанным на основании информации, которую «штаб» Мережковских получал от Иванова-Разумника (преимущественно, однако, в передаче Андрея Белого), можно заключить, что в течение всего первого марта шли непрерывные переговоры о конструкции власти между «вожаками совета» и «думцами-комитетчиками» и «все отчетливее» выяснялся «разлад» между Врем. Комитетом и Советом. Напр., под отметкой «8 час.» можно найти такую запись: «Боре телефонировал из Думы Ив. Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклеенного между Комитетом и Советом, следит, должно быть, как развертывается это историческое, двуглавое заседание». Такое представление, как бы опровергающее версию Суханова, будет, очевидно, очень неточно. Дело может идти лишь о том «неуловимом» контакте, который неизбежно устанавливался между двумя действующими «параллельно» крыльями Таврического дворца и сводился к частным разговорам и официальной информации. Никаких конкретных данных, свидетельствующих о том, что члены думского комитета были более или менее осведомлены о течениях, намечавшихся в Совете, мы не имеем. Скорее приходится предположить, что деятели Комитета не имели представления о том, что при обсуждении программного вопроса в советских кругах была выдвинута некоторой группой идея коалиционного правительства. По собственной инициативе люди «прогрессивного блока» такой идеи выдвинуть не могли, ибо они по своей психологии туго осваивались с тем новым, что вносила революция, органически «еще не понимали», – как записывает Гиппиус, – что им суждено действовать во «время» и в «стихии революции». Неверный учет происходивших событий искривлял историческую линию – быть может, единственно правильную в то время. В ночь, когда две руководящие в революции общественные группы вырабатывали соглашение, никто не поднял вопроса о необходимости попытаться договориться по существу программы, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Известная договоренность, конечно, требовала и другого состава правительства. «Радикальная» программа, которая была выработана, являлась только внешней оболочкой – как бы преддверием к свободной дискуссии очередных социально-политических проблем. В действительности получался гнилой компромисс, ибо за флагом оставались все вопросы, которые неизбежно должны были выдвинуться уже на другой день.
Возможен ли был договор по существу при внешне диаметрально противоположных точках зрения? Не должен ли был трезвый ум во имя необходимого компромисса заранее отвергнуть утопии? Как ни субъективен будет ответ на вопрос, который может носить лишь предположительный характер, подождем с этим ответом до тех пор, пока перед нами не пройдет фильмовая лента фактов, завершивших собой события решающей ночи. В них, быть может, найдем мы прямое указание на то, что в тогдашней обстановке не было презумпции, предуказывающей невозможность фактического соглашения. Можно констатировать один несомненный факт: вопрос, который представлялся кардинальным для хода революции, не был в центре внимания современников. Объяснить это странное явление макиавеллистической тактикой, которую применяли обе договаривающиеся стороны, желая как бы сознательно обмануть друг друга – так вытекает из повествования мемуаристов, – едва ли возможно… Наложили свой отпечаток на переговоры ненормальные условия, в которых они происходили… Никто не оказался подготовленным к революции – во всяком случае в тех формах, в которых она произошла. Все вопросы пришлось, таким образом, разрешать ех abrupto, в обстановке чрезвычайной умственной и физической переутомленности, когда лишь «несколько человек», по выражению Шульгина, «в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях». Но и эти «несколько человек» отнюдь не могли спокойно проанализировать то, что происходило, и больше плыли по течению. Вдуматься в события им было некогда. Ведь с первого дня революции общественных деятелей охватил какой-то поистине психоз говорения: «Только ленивый не говорил тогда перед Думой» (Карабчевский). Автор одного из первых историко-психологических очерков русской революции, озаглавленного «Русский опыт», Рысс писал, что будущий историк первый фазис революции будет принужден назвать «периодом речей». Керенский вспоминает, какое величайшее удовлетворение доставляла ему возможность произносить слова о свободе освобождающемуся народу. Вероятно, не один Керенский – оратор по призванию и профессии – испытывал такое ощущение потребности высказаться49. И только впоследствии начинало казаться, что делали они это поневоле, чтобы «потоком красивых слов погасить огонь возбуждения или, наоборот, пожаром слов поднять возбуждение». По выражению американского наблюдателя инж. Рута, прибывшего в Россию с железнодорожной миссией, Россия превратилась в нацию из 180 миллионов ораторов. Этого психоза далеко не чужд был и тот, кто по общему признанию доминировал в рядах «цензовой общественности» и был вдохновителем политической линии Временного Комитета. Сам Милюков охотно воспользовался антитезой биографа кн. Львова, противопоставившего в революции «чувство» Керенского «уму» Милюкова. Приходится, однако, признать, что синтетический ум Милюкова не сыграл в решающую ночь должной роли и не только потому, что Милюков, как записывала та же Гиппиус, органически не мог понять революции.
Отрицательные результаты недоговоренности сказались очень скоро. В ближайшие же дни неопределенность в вопросе об юридическом завершении революции, о формах временной правительственной власти и о методе действия согласившихся сторон создала трудное положение. Это роковым образом прежде всего сказалось на судьбах отрекшегося от престола монарха.о, отошел – опять начинает, пока опять из сил не выбьется».
41
«Праздничное, радостное возбуждение» Пешехонов у себя на Петербургской стороне отметил раньше – 27-го.
42
Любопытно, что Булгаков, оказавшись в писательской среде Мережковского, нашел, что он «в первый раз сталкивался за эти дни с таким мрачным взглядом на судьбу революционной России». Дневник Гиппиус, если он точно в своих записях передает тогдашние настроения своего автора, отнюдь не дает достаточного материала для безнадежного пессимизма. Возможно, что «детски сияющий», по выражению писательницы, толстовец несколько переоценил законный скепсис язвительного Антона Крайнего по поводу «кислых известий о нарастающей стихийности и вражде Советов и думцев»… Гиппиус признается, что навел на них «ужаснейший мрак» пришедший «в полном отчаянии и безнадежности» в 11 час. веч. из Думы не кто иной, как будущий левый с.-р. Иванов-Разумник: он с «полным ужасом и отвращением» смотрел на Совет. Позже Иванов-Разумник, в страничке воспоминаний, напечатанной в партийном органе «Знамя», заявлял, что это он попал в «штаб-квартиру будущей духовной контрреволюции».
43
Характерно, что воспоминания о своего рода пасхальных настроениях проходят во множестве мемуарных откликов: в Киеве все поздравляли друг друга, как «в светлый Христов день» (Оберучев).
44
Эти статьи и составляют как бы подневную запись мемуариста, принадлежавшего к буржуазной среде и освещавшего события с известной тенденцией.
45
Эту сентиментальную сцену нельзя не сопоставить с последующей трактовкой тогдашнего «душевного состояния» лидера цензовой общественности, данной Алдановым в историческом этюде «Третье марта», который был напечатан в юбилейном сборнике в честь Милюкова. Писатель говорит (как будто бы со слов самого Милюкова) о «ужасных подозрениях» Милюкова, которые в «глубине души» шевелились, – вел ли он политические переговоры с представителями «революционной демократии», или перед ним были «германские агенты» (!).
46
Однако, по словам того же мемуариста, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Гос. Думы казаку Караулову. Он задумал «арестовать всех» и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее «надежном полку», он увидел, что если он не перестанет, то ему самому несдобровать.
47
В свое время это организующее значение отметил Милюков, относившийся с резким отрицанием к захватническим тенденциям руководителей Совета.
48
Яркий пример того, как позднейшие биографы неточно передают настроения своих героев в смутные дни революции. В упомянутой юбилейной памятке Алданов пишет о Милюкове: «Со своим обычным видом “смотреть бодро” он говорил солдатам об открывающейся перед Россией новой светлой жизни, и видение близкой гибели Российского государства складывалось в нем все яснее».
49
Это не было и специфической чертой интеллигенции. В одном из последующих документов революции (доклад депутатов в Врем. Ком. о поездках в провинцию) зарегистрирован яркий бытовой облик деревенского оратора, приехавшего из центра односельчанина: «Говорит, говорит – уморится; сядет, закроет глаза и сидит, пока не отойдет немного, отошел – опять начинает, пока опять из сил не выбьется».