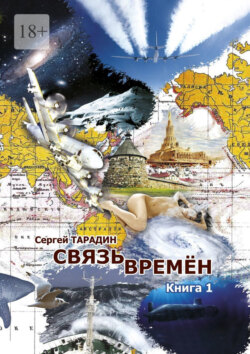Читать книгу Связь времён. Книга 1 - Сергей Петрович Тарадин - Страница 4
ГЛАВА 2. ВАСЬКА
ОглавлениеКабан Васька к осени достиг возраста полутора лет. На этом век его подошел к концу, поскольку был он никакой не кабан, а обычный домашний хряк, вернее, боров, кастрированный еще на третьем месяце жизни. Но на юге России домашних хрюшек часто называют кабанами.
В последние годы бабушка стала жаловаться на здоровье, и Егоркина мама, когда приезжала, уговаривала ее больше не выкармливать свиней. Хлопот с ними много, а сдавать их по живому весу – выходили гроши. Бабушка вроде согласилась и обещала поросят больше не заводить.
Но по весне к кордону на бидарке, открытой двухколесной повозке, запряженной одной лошадью, подъехал Арсентич, лесник с соседнего участка, крупный мужчина с крупной же круглой головой и длинными светлыми усами, который жил с семьей километрах в десяти-двенадцати, на другом кордоне. Визит был явно оговорен заранее, потому что гость даже не спешился. Просто передал бабушке какой-то мешок и, приветливо помахав Егорке, поехал по своим делам.
А бабушка бережно занесла поклажу в дом и, заговорщически улыбаясь, сказала:
– Ну-ка, внучок, гляди, что я тебе сейчас покажу!
И вытряхнула из мешка розового испуганного поросенка.
– Хотела больше не брать, но такие уж славненькие у Арсентича уродились – не удержалась.
– Бабушка, ну ты же обещала! Только что так намучились, пока тех сдали.
У Егорки были свежи воспоминания, как они ездили к заготовителям, как те кочевряжились и не хотели ехать в лес, торговались до какого-то полного бесценка, как потом приехали в дымину пьяные и грубо, за хвост, вытаскивали из загона розовых ухоженных свиней, вязали их, безумно визжащих и обделавшихся от страха, а затем, раскачивая, забрасывали в кузов грузовика.
– А мы его не будем сдавать! Мы для себя, – сказала бабушка. – К следующей зиме колбаски домашней сделаем, ты же любишь, а еще – божок – помнишь, какая вкуснятина?
Божком в этих краях называли блюдо наподобие домашней колбасы в оболочке из тщательно очищенного свиного желудка. Штука действительно очень вкусная. Туда от души клался чеснок, лавровый лист и перец, аромат которых растворялся в жировых прослойках, пропитывая всю массу. Елся божок холодным. В итальянской кухне такое блюдо именуется сальтисон, в немецкой по похожему рецепту готовится зельц, но с немецкой экономностью уже не из мяса, а из субпродуктов. Историки утверждают, что в России блюдо прижилось с Отечественной войны 1812 года, перенятое казаками от пленных итальянских солдат Наполеона.
Светленький симпатичный поросенок со смышленой мордочкой, конечно, и предположить не мог, в какое количество рецептов мировой кухни он занесен. Испуганно пятясь в угол, он посматривал на чужих людей из-под белых ресниц и тянул воздух розовым пятачком. «Хорошо, хоть не понимает, о чем говорят, – подумал Егорка. – А то ведь, наверное, не очень приятно, когда тебя любят за вкус твоего мяса».
Но бабушка лукавила. Расхваливая блюда, она просто старалась оправдать свой импульсивный поступок, порожденный на самом деле неизбывной вековой тягой человека держать возле себя животных и заботиться о них. Конечно, суровая практичность, заложенная в бабушке всей ее непростой жизнью, никогда бы не позволила ей заводить бесполезных зверушек для забавы, как делают это городские жители. На кордоне каждый питомец должен был что-то приносить на алтарь хозяйства – молоко, яйцо, мед, извоз, охрану или, извините, собственное мясо.
Даже кошка использовалась исключительно в прикладном плане и впускалась в дом только на короткое время – чтобы мыши чуяли, что она тут бывает. Остальное время она неутомимо вела войну с грызунами в подполье, в сараях, в курятнике и погребе. Кормежкой ее не баловали. Сытая кошка – плохой охотник. Но зато быстрота и грация у нее были поразительные. Черная, безупречно вылизанная шерсть горела, переливаясь на свету, и сыпала искрами в темноте при попытке погладить, а чистые, ясные глаза светились дикой, хищной энергией – никакого сравнения с рыхлыми и тусклыми городскими кошками.
Такими же образцовыми были у бабушки и коровы, и овцы, и гуси, и индюки. Любовь к домашней живности не могли истребить в ней ни сталинская коллективизация, когда всю нажитую скотину увели в колхоз, ни хрущевская борьба с личными хозяйствами, когда каждое дерево и каждая животина были обложены непомерным налогом и по деревням ходили специальные комиссии, прислушиваясь: не заблеет ли где незаконная козочка, не замычит ли утаенный теленок, – чтобы тут же оштрафовать хозяев.
Через много лет на вечеринке у берега теплого океана Егор не удержится и вступит в спор.
Один из гостей, русский, оглядывая с террасы широкую лунную дорожку на воде с вклинивающимися в нее черными силуэтами скал, воскликнет:
– Красота! – и патриотично добавит: – Нет, в России, конечно, тоже есть красивые места… Но у нас одна проблема: стоит отъехать от городской черты считанные километры, и дальше людей просто нет – сплошь только пьянь и тупое быдло.
– Так уж и сплошь? – улыбнется Егор.
– Сто процентов! – убежденно заявит собеседник, отпив из бокала глоток шампанского. – Сельпо – оно и есть сельпо! У них и руки из жопы, и голова оттуда же.
– Но без этих людей, наверное, и нас бы не было? Нам ведь для жизни нужны еда и воздух. А их ни гаджеты, ни интернет не дадут. Только животные и растения. И с ними кто-то должен возиться, разве не так? – спросит Егор. – Можно ли так огульно отзываться о тех, кому мы обязаны своим существованием?
Собеседник в ответ снисходительно улыбнется:
– Без помойного ведра тоже не обойтись, но это не значит, что ему надо поклоняться!
В этот момент Егора тронет за рукав подошедшая сзади симпатичная женщина, профессор-лингвист из Мадридского университета:
– Что у вас за спор? Я не все понимаю по-русски.
Егор, смягчая выражения, переведет ей суть разговора.
– А, да! – серьезно скажет испанка. – Я полностью согласна. И Егор решит, что она согласна с ним. Но собеседница добавит: – У нас ведь в Испании фактически два разных языка. Нет-нет, я не говорю сейчас о языке каталонцев или басков. Это отдельный разговор, это первично билингвальные народы, каких, кстати, в мире совсем немного. Я имею в виду наше основное, кастильское наречие. На самом деле оно состоит из двух мало пересекающихся лексиконов: одним пользуются высшие слои общества, а другим – чернь. Это сложилось веками, и эти две группы хотя и могут понять друг друга, но никогда образованный человек не снизойдет до языка низших классов, а те никогда не освоят язык элиты. Ведь крестьяне, работающие на земле, – они не такие, как мы с вами. Это совсем другие люди. Вернее сказать, не совсем люди. Они – наполовину животные: тупые, неразвитые, неспособные к восприятию прекрасного…
Егор будет слушать, и перед его глазами встанут картины далекого детства: вот бабушка любуется, как сверкают капельки на листьях после дождя, вот слушает птичку, щебечущую в высокой кроне, вот удивляется огромному помидору, вот неотрывно смотрит в пылающий закат. Да, она не ходила по концертным залам и картинным галереям. Она радовалась миру. Она видела оригинал, и ей не нужны были копии.
Егор не станет спорить, чтобы никого не обижать, тем более будучи в гостях. Но ему надолго запомнится выражение гадливости и презрения на лице этой интеллигентной женщины в момент произнесения ею слова campesinos, что как раз и означает «крестьяне».
Как рассказывала бабушка, в начале двадцатых годов, после революции, новая власть, пришедшая под лозунгами «фабрики – рабочим, земля – крестьянам», поначалу и вправду раздавала сельчанам бывшие господские земли – кто сколько возьмет. Народ от такого счастья прямо обезумел – еще бы, сбылась вековая мечта земледельца! Наделы брали до горизонта! Скотину, правда, в Гражданскую войну всю поистребили, так что пахали на себе. Работали так, что даже спать в деревню не ходили, ложились прямо на поле, чтоб не тратить время на дорогу и продолжить прямо с рассветом. Только детей посылали домой сорвать на огороде лука да принести бидончик кваса. Хорошо, если у кого было припасено сальцо, а так в основном на сухариках.
Но и результат трудов ждать себя не заставил: уже через год-два у всех были быки, а потом и кони, а там, гляди, начали строить новые дома, уже кое-кто и земляным полом брезговал – настилал деревянный! Стали снова отмечать праздники. В выходные дни с утра на скамеечках перед домами усаживались старики в новых, подаренных детьми рубахах, а вечерами собиралась на игрища молодежь.
Пошли справлять свадьбы. Бабушку, тогда еще совсем юную, шестнадцатилетнюю, тоже выдали замуж. Посватался неплохой человек, не стали обижать. Девка – товар скоропортящийся: передержишь – беды не оберешься. Хотя, как потом призналась бабушка дочке, Егоркиной маме, больше года она мужа к себе не подпускала – считала, что слишком молодая еще. Муж был заметно постарше и отнесся к этому с пониманием, не сильничал.
А потом как-то зимой в деревню приехал незнакомый человек в кожанке и с наганом. Зайдя в сельсовет, он показал председателю документы и спросил:
– А кто у вас в селе самый бедный?
– Да, пожалуй, вон – Ванька-дурачок, беднее его никого нет.
– Ну, вот и определяй меня к нему на постой.
– Да у него там клоповник и жрать нечего. Бобылем живет – кто за него пойдет! Его если от жалости кто покормит, а так – одними буряками питается.
– Ничего, я привычный.
На следующий день жители деревни, занимаясь своими делами, нет-нет да и замечали в разных местах странную пару – незнакомца и Ваньку-дурачка, тоже уже в такой же кожанке и с маузером в деревянной кобуре на тонком кожаном ремешке через плечо. Ванька дымил самокруткой и что-то рассказывал гостю, тыча пальцем в самые богатые подворья.
Наутро спозаранку председатель сельсовета обошел дворы и передал тридцати мужикам из числа наиболее зажиточных приглашение собраться перед зданием сельсовета к десяти часам, дескать, комиссар с ними потолковать хочет.
Слухи были самые разные: от хороших («электростанцию строить собираются») до плохих («излишки зерна будут вымогать»).
На деле все оказалось иначе. Пришедшие к сроку мужики с удивлением увидели возле сельсовета отряд вооруженных матросов, стоявших строем и переминавшихся с ноги на ногу – морозец придавливал, а ботиночки – не валенки.
Когда подтянулись последние из мужиков, матросы по команде вдруг слаженно, с глухим топотом и бряцанием оружия, побежали двумя цепочками и сомкнулись, опоясав мужиков ровным кругом.
– А ну снять всем верхнюю одежду! – скомандовал мужикам вышедший вперед тот самый вчерашний незнакомец.
– Вы что, хлопцы? Чего-то мы не поняли… – начал было один из мужиков.
– Тут понимать нечего – скидавай кожух и портки! – вякнул из-за спины комиссара Ванька.
Матросы по команде клацнули затворами и взяли ружья на изготовку.
Мужики, поглядывая друг на друга, стали раздеваться: обыскивать, что ли, будут?
– В колонну по трое – стройся! – скомандовал комиссар, когда селяне остались в одних рубахах и кальсонах.
– Это нам? – переспросил ближайший к нему мужик.
– Вам, вам! – снова высунулся Ванька.
И уже через минуту – в деревне еще никто всполошиться не успел – лучших ее хозяев строем, в одном исподнем, босиком по снегу, под конвоем матросов погнали за тридцать километров в город. Больше их не видели. Спустя пару дней все их подворья подверглись полному разорению прибывшей бригадой по раскулачиванию.
Молодую бабушкину семью эта беда тогда не затронула – они с мужем только начали жить отдельно в небольшой хате и хозяйство имели самое скромное. Бабушка, с детства приученная к работе, трудилась от зари до зари и ни о чем, кроме хозяйства, сильно не задумывалась. А вот муж ей достался немножко не от мира сего.
Звали его Семен. Высокий, худой и широкоплечий, то есть по деревенским меркам слегка несуразный (тут уважалось более плотное телосложение), он нередко служил объектом для шуток и получил у односельчан прозвище «каланча». Нельзя сказать, что Семен был плохим хозяином, нет. Работник он был азартный. Особенно любил копать вилами картофель, с восторгом глядя, как из серовато-черной рыхлой земли вываливаются на свет крупные золотистые клубни.
Но вот, бывало, встанет вдруг во время прополки:
– Гляди, Аня, какой закат!
Молодая жена только отмахивалась: какой там закат, когда до темноты вон еще сколько протяпать надо, сорняк стоймя стоит!
Или купил как-то мандолину и выучился на ней играть. Оно, конечно, послушать, может, и приятно, да только когда этим заниматься, если гуси в соседский огород залезли и хрюшки верещат голодные.
А по осени ружьецо на муку выменял, на охоту ходить. Да толку с той охоты! Весь день по лесу прошляется, а добычи – когда-никогда тетерев или куропатка. Охота – забава барская, а крестьянину о хозяйстве думать надо.
Когда образовался колхоз, муж стал с Аней заговаривать – не вступить ли? Та была категорически против:
– Ты, Сеня, видел, как там со скотиной обращаются? Они ж на работу к восьми часам выходят, а коровы с четырех не кормлены и не доены мычат! Чтоб я свою Зорьку туда отдала – да ни в жизнь!
– Ох, Ань, смотри, не нажить бы нам беды!
И беда пришла. Богатых дворов в деревне давно не осталось. Теперь раскулачивали уже тех, кто просто имел коня или, например, два самовара. Действительно, зачем два-то? Излишество, барство! А то вдруг приходил донос, что такой-то съездил на рынок и продал мешок семечки, выращенной своими руками, – торгаш, спекулянт, враг! Или зарезал по осени и съел свинью, «воспрепятствовав таким образом ее переходу в социалистическую собственность». А чаще всего причиной доносов становились сведение личных счетов и банальная зависть.
Зависть – страшная штука. Страшней, чем обида или месть. Ты можешь ничего плохого не сделать человеку, можешь даже не быть с ним знаком, но при этом стать его злейшим врагом.
Нашелся кто-то, кто позавидовал и бабушкиному счастью: а ну-ка – муж не пьет и за волосы не таскает. Не по-нашенски это. Тем более дочка у нее родилась такая здоровенькая да сытенькая, аж глядеть тошно.
Пока мужская часть комиссии по раскулачиванию ходила по их двору, описывая скотину и птицу, а женская, вытащив во двор сундук, беззастенчиво, как в магазине, примеряла на себя Анины вещи, Семен молча сидел на крыльце и отстраненно вертел в руках вырезанную им накануне деревянную куколку. Аня, обругав бездеятельного мужа, ушла в хату кормить грудью расплакавшуюся дочку.
Председатель комиссии между делом, проходя мимо, выдернул из сундука крохотную, искусно вышитую рубашонку, которую Аня только что сшила для дочери. Разорвав ее пополам, одну часть бросил на землю и втоптал сапогом в грязь, а другую, высморкавшись в нее, запихал в карман своих галифе.
Увидев это, Семен вдруг выронил куколку из дрожащих пальцев, метнулся в дом и выскочил оттуда с ружьем, которое было припрятано в чулане.
– Да что же вы делаете! – закричал он и выстрелил в воздух.
Члены комиссии, привычные к таким сценам, уставились на него, поняв, что опасности нет и что он сам не знает, что делать дальше. Председатель уже открыл было рот, дабы осадить мерзавца зычным окриком, как неожиданно сбоку грянул второй выстрел.
Семена шатнуло, лицо его вдруг сделалось другим, а крыльцо позади окрасилось красными пятнами – пуля попала в скулу. Выронив ружье, он рухнул как подкошенный. В нескольких метрах в стороне стоял Ванька, с восторженным интересом разглядывая дымящийся ствол маузера.
Так в неполные двадцать лет бабушка стала вдовой врага народа, с оружием в руках выступившего против советской власти. Ее, правда, не тронули, просто обобрали до нитки и оставили умирать с голоду с крохотной дочкой на руках. А вот отца ее арестовали и сослали на Соловки.
То время исковеркало немало судеб. И, как ни странно, редко кто обвинял в этом верховную власть. Причина каждой трагедии виделась в действиях конкретных исполнителей на местах. Известно: собака злится не на хозяина, а на поводок.
Односельчане хотя по-человечески и жалели Аню, но сторонились страдалицы, боясь, как бы тень ее беды не накрыла и их.
Через три года семнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков торжественно провозгласит, что социализм в СССР победил и в основном построен, а частная собственность и эксплуататорские классы окончательно уничтожены. Экономика страны вступит в эпоху социалистических производственных отношений.
Десятилетие до Великой Отечественной войны и десятилетие после нее станут не только самыми успешными для страны, но и недосягаемым рекордом роста во всей мировой истории развития человечества. Дважды поднимется СССР из разрухи и нищеты, многократно наращивая свою промышленную, научную и военную мощь, превратившись в итоге в сверхдержаву, контролирующую полмира и владеющую самыми современными ядерными и космическими технологиями.
Но Аня замкнется в своем горе, и вся политика властей так и останется в ее понимании, как, впрочем и в понимании многих вокруг, не «борьбой с эксплуатацией человека человеком», не «переводом сельского хозяйства на индустриальные рельсы» и не «стиранием грани между городом и деревней», а просто непонятным запретом трудиться на земле и иметь дом и коня.
Много позже, когда они с Егоркой будут идти по городу на рынок, она скажет:
– Ты гляди, какие дома люди строят! Машины покупают! Это разве не кулаки? Почему ж их никто не трогает? А нас-то…
А спустя еще полвека сам Егор, глядя на заокеанскую жизнь, с грустью заметит, обращаясь к жене:
– Вот посмотри, ведь наш народ во многом талантливее этой разношерстной публики. Но десятилетия мытарств истребили в нашей стране инициативу, убили в людях веру в то, что трудом можно достичь процветания.
Тогда, в тридцать первом, вдова одного лесника, мечтавшая перебраться из глухого леса в деревню, предложила Ане поменяться домами, добавив в качестве доплаты кое-какие припасы на зиму. Бабушка не задумываясь согласилась. Только бы подальше от этой власти, что так не любит людей, которые живут не подачками, а собственным трудом.
– Пойдем, дочка, – приговаривала она, успокаивая скорее себя, когда шла по дороге, уводящей в лес, и в одной руке несла малютку, а другой придерживала перекинутые через плечо два узла с пожитками. – Пускай они забрали у нас все, мы снова наработаем, у нас с тобой все-все будет, а они – как были голодранцами, так и останутся.
Эта привычка – все время разговаривать с дочкой, а когда дочка уедет – с животными, с самой собой, комментируя все свои планы на ближайшее время, останется у Ани навсегда. А как иначе выжить одной в лесу, в постоянном одиночестве и страхе, надеясь только на себя да на Бога.
– Боженька, прошу, не дай погибнуть, дай только дочку вырастить, – молила она в самые трудные, безнадежные моменты. И чувствовала, как прибывают внутри и силы, и спокойствие, как вера в Бога дает веру в себя.
Она переживет самую страшную войну двадцатого века и, неустанно трудясь на земле, всего девять лет не доживет до нового тысячелетия.
Но пока на окраине села Аня остановилась и окинула его прощальным взглядом. Неподалеку, возле одной из хат, стайка детей дразнила старуху, которая никак не могла выговорить новомодные слова-сокращения:
– Бабушка, бабушка, а скажите: «племхоз».
– Племхвост, хай ему грэць! – огрызнулась старуха и в сердцах сплюнула, вызвав взрыв детского хохота.
Тот уход в лес спас Аню в годы беспощадного рукотворного голода, который подытожил коллективизацию. Вся ее ближайшая родня, мать и семеро братьев, умерли. Аня с дочкой выжили, но и в их маленькой семье голод оставил свой губительный след: желудок малышки оказался навсегда испорчен кашей из отрубей и макухи, которой мать вынуждена была кормить девочку – молока в груди не было ни капли.
Замуж Аня так больше и не вышла. Мужики, которые приезжали к ней свататься, казались ей чужими, вонючими и придурковатыми. Частенько вечерами она рассказывала дочке об отце и, не удержавшись, начинала плакать, и дочка, скривив личико, тоже хныкала, уткнувшись ей в подол. И было горько Ане вспоминать, как обижала она иногда мужа непониманием. И порой она вдруг спохватывалась, заметив, что стоит на поляне, бросив скирдовать сено, и смотрит в широкий закат, не в силах оторвать глаз, словно бы это он, Семен, смотрит на закат ее глазами…
Поросенок Васька однажды здорово приболел. Бабушка забрала его в дом, выпаивала теплым молоком и травяными отварами, запаривала для него в кастрюле отруби, нарезая туда маленькими кубиками тыкву и морковку. Поросенок лежал на чистой тряпочке у стенки, исхудавший, часто дышал, то и дело негромко взвизгивая, видимо, от болей в животике. Когда его прохватывал понос, бабушка все тщательно убирала и обтирала Ваську чистой влажной марлечкой.
Уход и усиленное питание сделали свое дело. Васька пошел на поправку и скоро уже бегал по двору за Егоркой, весело вертя хвостиком, а через год крупный, холеный, довольный жизнью боров лежал в загоне, протянувшись от одной стенки до другой.
Поднимаясь по тропинке с огорода, бабушка задыхалась, но ускоряла шаг, приговаривая Егорке:
– Слышишь, кричит? Голодный, бедный, – и уже во весь голос, сквозь прерывистое дыхание: – Слышу, родненький!.. Иду, миленький… бегу, сейчас покормлю… сейчас… сейчас!
Непрерывный визг усиливался до самого момента выливания ведра с едой в кормушку и только тогда мгновенно стихал, сменяясь чавканьем и бульканьем – Васька зарывался в еду по самые глаза, пуская обильные пузыри.
– Бабушка, откуда у него такой аппетит? Он же ничего не делает, только валяется.
– Ох, внучок, некоторые люди тоже всю жизнь на диванах пролеживают, а едят не слабше кабанов.
И вот пришла осень, приближались первые морозы – время, когда обычно режут свиней.
Как-то на кордон заехал Арсентич, тот самый лесник с соседнего участка, который в прошлом году привез маленького Ваську. В этот раз гость не спешил и согласился отобедать. На селе такие визиты всегда сопровождаются осмотром хозяйства: тут и любопытство гостей, и гордость хозяев, и обмен опытом. Увидев кабана, Арсентич восхитился:
– Какой красавец! Вот это он раскохался! И не узнать. Когда будете резать, на ноябрьские?
Егорка услышал эту фразу и сразу пристал к бабушке, вводя ее в неудобство перед чужим человеком:
– Как, бабушка? Разве мы Ваську зарежем? Он же такой хороший! Он мой друг! Он любит, когда я его чешу за ушком!
Егорка так привык к Ваське, что уже действительно считал его своим другом и совсем забыл тот разговор про колбасу и божок.
Бабушка и сама чувствовала себя не в своей тарелке и уже жалела, что связалась с кабанчиком.
– Ладно, оставим на следующий год.
– Правда? Так можно?
– Можно. Люди есть и по три года держат.
– Ура-а! – закричал Егорка. – Пусть Васька живет!
Год для мальчишки был равен чуть ли не вечности.
Но Васька сам себя подвел. Нагуляв дурную силу, он зубами повыдергивал гвозди-стодвадцатки, развалил загон и с восторгом выбежал в лес. Его черные следы были четко видны на первом снегу, припорошившем еще не мерзлую землю.
Далеко Васька не ушел и был обнаружен под ближайшим дубом за поеданием желудей.
С таким же оптимизмом он проделал и обратную дорогу на кордон, выхватывая из бабушкиной руки желудь за желудем и весело ими чавкая. Миской картофельных обрезков бабушка заманила его в сажок, то есть хлев, и, облегченно выдохнув, задвинула деревянный засов.
– Все, внучок, испортился Васька, разбаловался. Придется резать.
– А что будет, если не резать?
– Кабаны – они такие: если воли понюхал – теперь все равно убежит, не удержим.
– И что тогда?
– Либо одичает, либо замерзнет, а то и на волка набрести может. Так что придется все-таки резать. Ты тут запирайся, никому чужим не открывай, а я поехала за резаком.
Егорка знал, кто такой резак, но никогда еще его не видел. Это был человек, которого нанимали резать скотину там, где хозяева не были уверены, что справятся сами.
Бабушка рассказывала о нем с восхищением и всегда ставила в пример Егорке, когда тот плохо ел.
– Знаешь, он, когда телочку забивает, то приставляет к разрезу кружку, набирает полную крови и выпивает! Так ты бы видел, какого цвета у него щеки – пунцовые, прямо как помидоры! Вот здоровье у человека!
Пережив голодные годы и вырастив слабую здоровьем дочь, бабушка как-то особенно восторгалась сильными и здоровыми людьми.
Резак оказался дома и свободен, поэтому решили не откладывать. Он взял нож-тесак, заправил паяльную лампу, накинул зеленовато-рыжую ватную фуфайку на голое тело и поехал на своей бидарке вслед за бабушкиной.
Егорка увидел их в окошко и вышел встречать, грустный, но понимающий, что ничего не поделаешь.
– Только знаешь, – сказала бабушка резаку, – ты уж тут, пожалуйста, сам управляйся, а мы пойдем – я не могу на это смотреть.
– Ты, бабуля, иди, тебе на это смотреть и не надо, а мальца оставь. Он мне поможет.
– Да мал он еще!
– Ничего не мал. Сколько тебе? Семь скоро? Я в эти годы уже сам козла резал. Помню, лежит он, связанный, а я сел ему на шею верхом и никак глотку ножом не перепилю – силы в руках еще не хватало. Козел орет, снег вокруг меня красный уже метра на три. А куда деваться – мать сказала: режь, ты теперь в семье старший мужчина. Батька-то со старшим братом тогда на фронт ушли, а младший еще пешком под стол ходил.
– Да нет, ты, наверное, давай уж сам.
– Не переживай, бабуля, я все сам сделаю, пацан мне только связать его поможет. Кабан-то его знает, подпустит. А от меня шарахаться будет, еще вырвется – ты ж его там небось раскормила, я ж тебя, бабуля, знаю.
Резак повернулся к Егорке:
– Зовут как? Егор? Ну что, Егор, мужчиной будешь расти или мазунчиком?
– Мужчиной, – неуверенно ответил Егорка.
– Вот и молодец, пошли. А ты, бабка, иди, иди, нечего тебе тут делать.
По пути к загону резак спросил:
– Как кабана-то зовут?
– Васька.
– Ого! Тезка. Я тоже Василий.
– Дядя Резак, а вы ему будете горло резать?
– Да не, я его в сердце ударю.
– А ему очень больно будет?
– Нет, он даже испугаться не успеет.
– А вы и человека так же можете?
– Конечно, таким-то ножом – запросто! – похвастал резак и вдруг понял, что беседа повернула куда-то не туда. – Ладно, хватит глупые вопросы задавать. Вот тебе петля из вожжей, зайдешь и накинешь ему на заднюю ногу. Я здесь у двери подожду, вынесешь мне вот этот конец вожжей и выходи из сажка, я сам зайду и управлюсь. Все понял?
– Все.
– Давай.
Резак приоткрыл дверцу, и Егорка вошел в полутемный сажок.
Васька спал у дальней стенки, довольно похрюкивая – желуди небось снились.
Егорка остановился, привыкая к темноте, и оглянулся. Резак встал в дверном проеме, полностью загородив его:
– Ну, давай, чего ты?
Васька, услышав чужой голос, всполошился. Он попытался вскочить, но слабые ноги скользили и дрожали, не в силах поднять огромное колышущееся тело. Тем не менее он встал, и вид у него был настороженный, как будто он все понимал.
– Это я, Васька, не бойся, – Егорка чувствовал себя предателем.
Кабан повернулся к нему мордой, опустил ее и недоверчиво смотрел исподлобья.
Егорка расправил в руках петлю и стал тихонько обходить кабана, чтобы как-то подсунуть ее под заднюю ногу, приговаривая:
– Ну, что ты, дурачок, испугался, все хорошо, все хорошо…
И тут Васька выкинул фортель. Со страшным визгом он сорвался с места, тесанув Егорку шершавым боком, и полуторацентнерной торпедой ударил резака в пах, опрокинув его в навозную жижу.
– Держи… твою мать! – заорал резак, хотя понимал, что удержать такую тушу уже не сможет никто.
Так и ушел бы Васька в лес, да подвела его передняя нога, попавшая в щель между потертыми досками у самого порога. С хрустом сломалась кость, и Васька с размаху стукнулся челюстью о порог, продолжая оглушительно визжать без возможности двинуться дальше.
Резак, матерясь, поднялся, посмотрел на Ваську, потом на Егорку и усмехнулся:
– Вот же, ёшкин кот! Ладно, здесь кончать будем. Придется и вправду горло резать. Навались на него сзади, чтоб не дергался.
Резак достал нож и грубо оседлал Ваську. Оглушительный визг сменился хрипением и бульканьем, которое доносилось теперь уже не из пасти кабана, а из широкого разреза, пересекшего его горло. Васька еще несколько раз конвульсивно дернулся, как будто вздыхая, как ребенок после долгого плача, и затих. Егорка лежал оглушенный, обнимая теплую спину своего друга, и, поглаживая его, машинально приговаривал:
– Ну, потерпи, потерпи, миленький, сейчас все пройдет, все хорошо, все хорошо…
Кто нам придумывает жить?
Какое он имеет право?
Кому так сладостна забава
Людей по судьбам проводить?
Единство смерти и начал,
Добра и зла неразделимость —
Кто этот странный мир нам дал?
Кто мы – основа или примесь?
Какая зыбкая тут явь,
Как неразлучны миражи с ней,
Из стран, из женщин и из жизней —
Не ошибись – одна твоя.