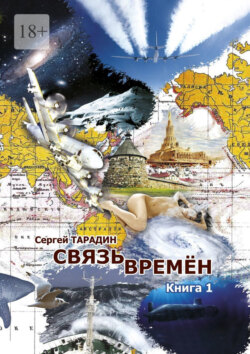Читать книгу Связь времён. Книга 1 - Сергей Петрович Тарадин - Страница 6
ГЛАВА 4. СТИХИ
ОглавлениеГлеб Родионович Пшеничный родился еще в девятнадцатом веке. В том самом, до которого всего четыре года не дожила Екатерина Великая и который начался с присоединения Грузии к России царем Павлом Первым, прожившим в этом веке чуть больше двух месяцев.
А закончился век строительством Транссибирской железной дороги, пересекшей вдоль всю огромную империю, третью по величине за историю человечества – после Британской и Монгольской.
– Я, конечно, того столетия почти не застал, – рассказывал Глеб Родионович, – семь лет всего захватил. Хотя кое-что помню. А вообще-то, в целом тот век получился такой, знаешь, романтичный и самонадеянный. Мне кажется, его дух лучше всего передали удивительные фантазии Жюля Верна и Герберта Уэллса. В девятнадцатом веке человечество уже почувствовало мощь современной техники, но еще не знало порожденных ею катастроф. Не было пока ни крушения «Титаника», ни пожара на дирижабле «Гинденбург»…
Будь это лет на двадцать позже, Глеб Родионович, несомненно, добавил бы: «ни Чернобыльской трагедии». Но к моменту этого разговора роковую АЭС еще даже не начали строить.
А разговор продолжался уже довольно долго. Спешить обоим собеседникам было некуда. Егор слушал, стараясь удержаться от вопросов, чтобы не перебивать рассказчика. Этого человека, жившего по соседству, он уважал до обожания и привязался нему, как может привязаться только ребенок, недоласканный в собственной семье.
Говорил Глеб Родионович правильным книжным языком, не заумно, но без всяких скидок на возраст собеседника. При этом слух Егора улавливал особенности речи, которые казались странными и забавляли. Например, вместо «дверь» у Глеба Родионовича получалось «дьверь», вместо «булочная» – «булошная». Вокруг никто так не говорил.
– В науке к концу того века, – продолжал он, – сложилось мнение, что все главные законы открыты, картина мира ясна и осталось лишь уточнить некоторые детали. Ни ядерная физика, ни теория относительности еще не смущали умы своим противоречием бытовому опыту. На карте мира практически не осталось белых пятен, но она не пестрела красками: все пространства были поделены между несколькими империями. Вот возьми-ка атлас, вон тот, темно-серый.
Егор снял с полки увесистый фолиант, кожаный корешок которого украшали тисненые золотые узоры и надпись: «Географическiй Aтласъ».
– Вот, смотри, – сказал Глеб Родионович, раскрывая книгу.
Внутри Егор увидел пустые желтоватые страницы – пустые, без всякого текста. Но когда хозяин стал их аккуратно разворачивать, оказалось, что это сложенные карты.
– Видишь, даже в Европе: Российская империя раскинулась на пол-Скандинавии, до самой Швеции с Норвегией.
Глеб Родионович придерживал сгиб карты длинными прямыми пальцами. Руки его, несмотря на натруженность, сохраняли особый аристократизм формы.
– Южнее мы граничили напрямую с Германской империей и Австро-Венгрией, а совсем на юге – с огромной Турецкой империей, которая покрывала Южную Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Если идти дальше в Африку и Азию – там сплошь колонии европейских метрополий. Европа тогда безраздельно господствовала в мире. Никто и подумать не мог, что она постепенно станет отходить на второй план.
От сипловатого завораживающего голоса собеседника по коже у Егора бежали приятные мурашки, и хотелось слушать и слушать. Глеб Родионович помолчал, потом добавил:
– И не было еще даже понятия такого: мировая война.
Мальчишка с любопытством разглядывал затейливо разрисованные карты и, конечно, не предполагал, что через много лет именно картография станет его главной профессией. Только не сухопутная, а морская.
– В девятнадцатом столетии, – продолжил рассказчик, – ушли наконец в прошлое средневековые варварство и мракобесие. В первой половине века были упразднены португальская и испанская инквизиции, а во второй половине – практически одновременно – отменены рабство в США и крепостничество в России. При этом человечество в основном оставалось неграмотным и проживало в сельской местности. Города были немногочисленными. Жизнь большинства людей с рождения и до смерти определялась вековым укладом и традициями. Это было последнее столетие, когда внуки жили так же, как деды.
Для Егора, родившегося в год запуска первого спутника, общаться с человеком, который застал еще царя, было завораживающе интересно.
– А как это вообще – жить не при социализме? Ведь гнет же был, эксплуатация! А где вы все покупали? У буржуев? Государственных магазинов ведь не было? А сколько что стоило? – мальчишка все-таки не удержался и завалил Глеба Родионовича вопросами.
Тот по-доброму посмотрел на своего слушателя и пустился в воспоминания:
– Я, когда учился в гимназии (слово-то какое допотопное: «гимназия»! – отметил Егор), то подрабатывал пением в церковном хоре. Получал за это пятак.
– Всего пять копеек?
– Да. Но это были не такие уж и маленькие деньги. Копейка была не та, что ныне. За рубль можно было купить воз рыбы.
– Воз?
– Да, при продаже рыбы была и такая «расфасовка» – возами. На Дону шум косяков был слышен за километры, а в пору нереста вдоль реки выставлялись казачьи разъезды – следили, чтоб никто рыбу не пугал. Белуг вылавливали – по тонне и больше. Икры с каждой – по пяти-шести пудов! Бывало, во время ледохода прибьет льдиной к берегу косяк стерляди, так руками можно пару мешков нахватать! А еще была такая рыба – чехонь, что-то в последнее время и не видать ее. Кривая, как турецкая сабля. Ловили ее по осени, когда она жир нагуляет, сушили и потом всю зиму печку ею топили – дешевле дров выходило.
– Печку – рыбой? Классно! А что вы покупали на тот пятак, который в церкви зарабатывали?
– Погоди. Чтоб его получить, надо было сперва у батюшки исповедаться. А он был мужчиной крупным, по сравнению с нами – и вовсе великан. Усядется, бывало, огромный такой, ряса – черная, бородища – тоже черная, с проседью, глаза – смоляные, щеки – как яблоки, крест на груди массивный, серебром посверкивает – а мы боимся подходить. Вот он нас по очереди подзывает, сверлит тяжелым взглядом и таким зычным басом вопрошает: «А не грешен ли ты, сын мой, в деяниях и помыслах своих?» И ты стоишь – ни жив ни мертв от страха – и только киваешь, моргаешь да повторяешь торопливо: «Грешен, батюшка… Грешен, батюшка…» А он, как я уже позже понял, для смеху: «А не грешен ли ты, сын мой, в воровстве, разбое, убийстве, прелюбодеянии?» И ты: «Грешен, батюшка…»
Глеб Родионович не выдержал и засмеялся своим воспоминаниям, покачивая головой, будто до сих пор все еще удивлялся проказливости того батюшки.
– Да… И вот только тогда он сжаливался: «Ну, ступай себе с Богом! Вот, держи свой пятак». А к нам прямо во двор гимназии к большой перемене приходил полный, румяный, рыжеватый мужик в фартуке. Он ставил деревянный стол, на него – сверкающий самовар и фарфоровые чашки с блюдцами. Чашка чаю – полкопейки. И булочка – она почему-то называлась «жулик» – тоже полкопейки. А сахар – колотый, камушками, бери к чаю – сколько хочешь. Вот куда все наши денежки и уходили, – Глеб Родионович помолчал и добавил уже более серьезно: – Методика обучения в гимназии была другой, не та, что в нынешних школах. Вам сейчас стараются как можно больше всего объяснить, разжевать, чтобы даже самые отстающие поняли. А нас заставляли как можно больше просто выучить наизусть. На первый взгляд, вроде глупость. Зубришь, как попка, ничего не понимая. Но память-то в детстве хорошая. Залипает все на раз! И потом, когда уже начинаешь вникать, кумекать, что к чему, у тебя к этому времени в памяти целый багаж! Хочешь – цитируй, хочешь – осмысливай. Но это все – оно уже с тобой, в тебе! И древнегреческие поэмы, и сочинения римских историков. А главное – языки. Вот ты сейчас какой учишь? Немецкий?
– Да, – кивнул Егор.
– Всего один. И что ты можешь на нем сказать? Дорогу путнику объяснишь? С дамой познакомишься?
Егор только вздохнул в ответ.
– Вот. А мы учили сразу три. И учили так, чтобы можно было общаться.
Глеб Родионович, видимо, и сам в молодости имел волосы как у того батюшки – цветом в вороново крыло. Вьющиеся, несмотря на короткую стрижку, они и поныне сохранили завидную густоту. Седина не выбелила их до конца, а придала оттенок патинированной стали, и лишь на ярком солнце они вспыхивали чистым серебром.
Долгие годы Глеб Родионович работал геологом и объехал все просторы нашей страны, пока она меняла свои очертания, названия и правительства. Жена делила с ним непростую походную жизнь. Рожденные и выросшие в экспедициях дети тоже стали геологами и так же колесили по стране, изредка пересекаясь маршрутами с родителями. Уехал в поле Глеб Родионович молодым инженером Геологической части Кабинета Его Императорского Величества, а вернулся советским пенсионером в год Съезда строителей коммунизма и полета в космос Юрия Гагарина. Год-перевертыш – 1961.
Полезные ископаемые у нас интересовали любую власть, так что без куска хлеба Глеб Родионович не оставался никогда, а в полевых условиях многого и не требовалось. Искал он и руду, и самоцветы, и уран, и нефть, и золото. Одно время даже подался было в старатели на золотые прииски – до сих пор колени болели после студеных речушек Колымского края. Но, как Глеб Родионович доверительно сообщал Егору, ведомы ему места, где можно и сегодня неплохо намыть золотишка, причем не только в далекой Сибири, но и поближе, тут, на Кавказе.
– Будь побольше здоровья – непременно поехал бы, – говаривал геолог.
Был он большим любителем чая, видимо, еще с тех, гимназических времен.
– Лизонька, а завари-ка нам с молодым человеком чайку с мятой и чабрецом, – обращался к супруге Глеб Родионович, и они с Егором могли не по одному часу беседовать обо всем на свете, воздавая должное ароматному напитку и плюшкам с маком.
По праздникам к десерту обязательно добавлялись пьяные вишни, моченый терн и пирог с начинкой из тыквы с вкраплениями того же терна. Почему-то эти старинные блюда совсем не встречались Егору в его дальнейшей жизни.
Сахар к чаю употреблялся только вприкуску – твердые камушки, которые специальными щипцами кололи на маленькие кусочки, медленно тающие во рту. В магазинах такой сахар был редкостью, но Глебу Родионовичу присылали друзья из Москвы. Давней привычке, приобретенной в гимназическом дворе, он не изменял никогда – вкусы и запахи, полюбившиеся в детстве, на всю жизнь остаются самыми желанными.
Французские парфюмеры не так давно попытались найти универсальный запах, который нравился бы всем, чтобы на этой основе сделать идеальные духи. Ученые провели масштабные исследования обонятельных предпочтений людей самых разных групп и выяснили, что такого идеального запаха не существует. Те, кто провел детство на природе, выбрали ароматы с нотками трав, листвы, цветов, но те, кто вырос на асфальте, предпочли синтетические запахи, а природные оставили их равнодушными – им не с чем было ассоциировать эти ароматы.
Иногда Глеб Родионович играл на виолончели. Егора удивляло, какие сильные, низкие и надрывные звуки исторгает этот инструмент из своего деревянного лакированного чрева. Лет через десять, пробуя себя в амплуа композитора, он узнает, что так же, как в рок-группе основу звучания задает пара: ударные и бас-гитара (и сто́ит им разойтись между собой – сразу рухнет вся композиция), так и в классическом оркестре именно виолончели вкупе с контрабасами ткут основную материю звука. А всякие прочие там скрипки и флейты лишь вышивают узоры на этой ткани.
Однако пока что Егор был совсем неискушен в музыке и с интересом вслушивался в печально-тревожные мелодии, скользя взглядом по корешкам книг обширной библиотеки Глеба Родионовича.
К чтению мальчишка пристрастился в третьем классе. До этого как-то не шло. Мама даже переживала, что сына не тянет к книгам. А потом вдруг как прорвало. Особенно фантастика, про экспедиции в древние пески Марса и непроходимые влажные джунгли Венеры. Он быстро перечитал все, что было интересного в школьной библиотеке, и попробовал записаться в районную. Но там отказали:
– Мал еще, приходи классе в шестом.
Поджав губы, Егор вышел в коридор и тут не удержался, расплакался.
– Что случилось? – из своего кабинета выглянула директор библиотеки.
– Не записывают… – с трудом, сквозь всхлипы, выдавил Егор.
Директор улыбнулась:
– Не раз видела, как плачут дети, которых родители заставляют записываться в библиотеку, но впервые вижу, чтобы плакали оттого, что не записали. Девчонки, господи, да сделайте вы исключение!
У Глеба Родионовича была богатая коллекция книг. Где уж он ее хранил, пока странствовал – бог весть, но тут встречались удивительные издания. Некоторые даже рукописные. Или вот, например, первая «Большая советская энциклопедия». Она выпускалась с 1926 года специально созданным акционерным обществом, которое потом преобразовали в государственное издательство. Поначалу разогнались – решили переплюнуть царскую энциклопедию Брокгауза и Ефрона, а заодно и знаменитую «Британнику». На одну только букву «А» ушло четыре тома. Процесс растянулся на многие годы, а страна стремительно менялась. Большинство авторов были объявлены оппортунистами и посажены, а то и расстреляны. В итоге энциклопедию скомкали, ужали до шестидесяти пяти томов и, едва закончив ее выпуск в 1947 году, сразу взялись за второе издание.
В первой энциклопедии оказалась куча неувязок: в начальных томах встречались ссылки на статьи, которых не было в последующих. Зато в поздних томах Егор нашел вкладыши, которые следовало вклеить в ранее вышедшие тома – на место статей, рекомендованных к удалению. Даже давались инструкции, как аккуратно подрезать «неправильные» листы. Глеб Родионович этим инструкциям почему-то не последовал и оставил книги нетронутыми.
В пятнадцатом томе, выпущенном в 1929 году, Егор прочел, что «пресловутые гороховые законы монаха Менделя» были наголову опровергнуты трудами советских ученых Мичурина и Тимирязева. А из сорок седьмого тома, изданного в 1940-м, узнал, что – да, было некогда такое государство – Польша, но погрязло в великопанском шовинизме, затеяло агрессию и, будучи прогнившим насквозь, молниеносно пало под совместными ударами доблестного советского и германского оружия.
– Глеб Родионович! Вот вы родились еще в том веке, а живете уже в этом. А в каком веке вообще вы хотели бы жить?
– Ты, знаешь, Егор, в Китае пожелание «чтоб ты жил в эпоху перемен» считается проклятием. Но я полагаю: мне повезло. Моя жизнь пришлась на интересные времена, и вряд ли бы я захотел поменять их на какие-то другие. Любопытно было бы, конечно, посмотреть: что там будет дальше, – но это, наверное, просто желание пожить подольше, присущее нам всем. Старикам – особенно.
– А мне вот хотелось бы жить в далеком будущем! Когда будут звездолеты, роботы всякие, путешествия на разные планеты.
Глеб Родионович улыбнулся:
– Каждый век по-своему интересен. И каждый не похож на другие. Вот про девятнадцатый мы с тобой уже не раз говорили, а возьми восемнадцатый. Он совсем иной! В девятнадцатом веке народ туда-сюда по Российской империи уже вовсю сновал. Какие-никакие, а дороги все-таки появились: верстовые столбы, почтовые станции, где можно было сменить лошадей. Поезда по рельсам пошли, а это уже совсем другая жизнь. В восемнадцатом столетии всего этого и в помине не было!
Мы сегодня говорим: планета сжалась. И это правда. Гагарин облетел «шарик» за сто восемь минут! Мы можем позвонить в любой город мира, посмотреть по телевизору репортаж с края света. Можно позавтракать в Хабаровске и обедать уже в Москве! Но ведь работает и обратный отсчет: два века назад планета была неизмеримо больше нынешней! Чем труднее пути сообщения, тем длиннее ощущаются расстояния! Даже Римская империя с ее средиземноморской навигацией, мощеными дорогами и благодатным климатом в этом смысле в подметки не годилась России восемнадцатого века с ее снегами, бездорожьем и распутицей.
Самая свежая новость из Петербурга достигала Москвы будучи уже недельной давности. Что говорить о других городах! Назначенные чиновники добирались до места службы месяцами, а то и годами! Совсем другой масштаб времени! В период дворцовой чехарды после смерти Петра даже не самые дальние губернии неделями управлялись указами уже смещенных или мертвых царей! Когда в девятнадцатом веке капитан Невельской впервые привез на Камчатку грузы морским путем вокруг Южной Америки и через весь Тихий океан с заходом на Гавайские острова, это была неслыханная скорость: всего восемь месяцев! Раньше-то через Сибирь два года везли!
А если забраться еще глубже, в семнадцатый век, в шестнадцатый?
– Ну, тогда вообще, наверное, народ всю свою жизнь по домам сидел!
– Если бы все по домам сидели, откуда бы империя взялась? Нет. Предки наши, несмотря ни на что, были духом неугомонны! Мы как-то привыкли считать, что Россия до Петра была дикой и изолированной от мира. И вроде бы только он, когда прорубил «окно в Европу», одним махом сделал нас империей.
– Ну да! Вы же сами давали мне книгу про Петра!
– Но скажи: а почему Иван Грозный не прорубил окно в Европу?
– Не знаю… Наверное, не был таким передовым.
– Не в том дело. Рубить просто нечего было: Прибалтика в те времена и так была наша, мы потеряли эти земли позже.
– Да?
– Да. И вообще, я советую, покопайся в истории родного отечества, не ограничивай себя школьным курсом. Это ведь очень интересно – проследить: как так получилось, что мы стали самой крупной в мире державой? Как можно было создать такую империю и управлять ею, когда не было ни телефонов, ни поездов, ни самолетов? Вот ты только представь… – Глеб Родионович слегка прищурился, будто глядя в необозримую даль. – Сибирь. Нехоженая, неизвестная, страшная… Буреломы, заросли, обрывы, утесы, а за ними, там, где-то, великие реки, а за ними – горные хребты… И опять, и опять… Тысячи верст, тысячи дней пути, тысячи и тысячи неведомых врагов… И так до тех диковинных краев, где, по слухам, живут люди с песьими головами и где земля обрывается пропастью прямо в геенну огненную. И никаких дорог. Идти можно только звериными тропами. Ты видел когда-нибудь звериную тропу?
– Видел, – серьезно ответил Егор, припомнив кордон и ходы, ведущие из леса к кринице, продранные кабанами в густом подлеске. В эти ходы, испещренные понизу раздвоенными отпечатками, можно было заглядывать, как в трубы.
– Ну да, ты же у нас человек лесной! – рассмеялся Глеб Родионович. – Только наши леса сибирским не чета! Но прошли ведь люди весь этот простор! До самого океана! Об этом как-то мало написано, или мне не повезло найти. А должны быть великолепные книги и захватывающие фильмы! Колумба знает весь мир! А наших первопроходцев не помнят даже те, кто живет на разведанных ими землях, в основанных ими городах! Колумб плыл от Канар до Америки по теплому океану всего-то чуть больше месяца! А сколько до той же Америки шли наши первооткрыватели? Вообще, как все это случилось? Как из маленьких княжеств, неспособных противостоять дикой, но организованной Орде, за столетия выросла огромная страна? Как духовный посыл Сергия Радонежского и Андрея Рублева реализовался сперва в победе князя Дмитрия над абсолютно непобедимыми монголами, а потом – в движении Ивана Грозного на Казань и дальше – в походе Ермака в Сибирь. И потом вплоть до плавания Семена Дежнева через Берингов пролив – кстати, на восемьдесят лет раньше самого Беринга, в честь которого этот пролив назван. Очень интересна фигура отца Петра Первого – царя Алексея Михайловича. Прозвище его знаешь?
– Нет.
– Тишайший. Именно при нем мы достигли наибольших успехов в присоединении Сибири, он даже в Китай первое посольство направил для налаживания отношений. И присоединение Украины также началось при нем. Именно тогда решился вековой вопрос: какая из двух славянских империй имеет будущее – Великая Польша или Великая Россия? Даже первый русский боевой корабль был тоже построен по его указу. Назывался «Орел». Правда, его через год после спуска на воду Стенька Разин угробил.
– Глеб Родионович, но если, как вы говорите, столько всего сделал отец Петра, то почему же мы помним не отца, а сына?
– История вообще гораздо чаще хранит имена великих разрушителей, чем великих созидателей. Юлий Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон, не говоря уж о Гитлере – все они крови и бедствий принесли куда больше, чем благ. А мудрых созидателей, таких, например, как римский император Пий, память человечества отмечает куда скромнее…
В ту ночь мальчишке снились поваленные буреломами огромные стволы невиданных деревьев, упиравшиеся черными ветвями и вырванными из почвы гигантскими, похожими на щупальца корнями в хмурое небо. И чудилось, будто летит он над затуманенными пространствами и вдали одна за другой встают над дымкой горные гряды, а там, внизу, змеятся извивы диких речушек, сливающихся в широкие, отсвечивающие ртутью реки.
Однажды Егор показал Глебу Родионовичу свои стихи.
– Лизонька, а ну, иди, посмотри, мне кажется, недурно для начала!
Елизавета Андреевна с интересом взяла листочки в клеточку и пробежала глазами колонки строф:
– Глеб, я покажу это редактору районной газеты. Егор, ты не возражаешь?
Стихи Егора были опубликованы в ежемесячной рубрике «Поэтическая тетрадь». Автор с удивлением смотрел на собственные произведения, набранные печатным шрифтом, с заголовками, которые придумал им редактор газеты, сам тоже местный поэт.
Скользнув взглядом на соседнюю страницу, Егор прочел небольшую заметку, перепечатанную из центральной «Правды». Там сообщалось о высадке американских астронавтов на Луну. «Ух ты!» – изумился мальчишка. Он, безусловно, знал о космической гонке между СССР и США, но был уверен, что американцы в ней давно и безнадежно отстали.
В самой «Правде», которую многие в городе, конечно, тоже выписывали, этого сообщения почти никто не заметил. Оно было дано не на первой полосе и даже не на последней, а в самом низу наименее читаемой предпоследней страницы – мелким шрифтом, в один абзац. И вот молодой редактор городской газеты, возомнив себя матерым журналистом, охотником за сенсациями, перенес эту заметку в свое издание. На следующее утро он был вызван в районный комитет партии, где офицер КГБ в присутствии секретаря райкома сделал ему внушение: что ж ты, подлец, восхваляешь вражьи успехи! И только тот факт, что это была все-таки дословная перепечатка из главной газеты страны, уберег редактора от немедленного ареста. Хотя осадочек в личном деле, конечно, остался.
Для Егора самым неожиданным было не то, что его стихи взяли для печати, и не то, что о нем заговорили в городе. А то, что ему заплатили – четыре рубля, целое состояние для него. Отец денег почти не давал. Питался Егор при школе. Летом он заработал немножко, сколачивая ящики на консервном заводе и собирая овощи в совхозе, но возможность получать деньги круглый год, да еще таким простым способом, наполнила его радостным предвкушением материального благополучия. Теперь он все время подстегивал себя: надо писать – и будут деньги. Егор стал постоянным автором «Поэтической тетради». Не зря говорят: художник должен быть голодным.
Был у него, правда, еще один источник дохода – посылки от бабушки – но приходили они редко и только зимой. Егор получал на почте фанерный ящичек, заботливо обшитый холщовой материей, на которой химическим карандашом был написан адрес. В ящичке всегда было сало, мед, иногда что-то из вещей, сложенный листок с письмом и обязательно – припрятанная в нем желтовато-розовая десятка с портретом Ленина.
Егор прекрасно представлял, как достаются бабушке эти деньги. По субботам, задолго до рассвета, она навьючивала на себя связанные между собой сумки с баллонами молока, сметаной и творогом и тащила их десять километров до станции, чтобы в общем вагоне добраться до города. Распродав на рынке свой товар: молоко 25 копеек за литр, сметана 1 рубль 10 копеек за пол-литровую банку и творог 11 копеек за блюдце, – бабушка аккуратно завязывала мелочь и мятые рубли в платочек, который прикалывала под платьем на груди, и спешила домой к брошенному на полдня хозяйству.
Управившись с делами, она садилась к окошку, аккуратно развязывала платочек и тщательно пересчитывала выручку, любовно складывая мелочь в стопочки по рублю, которые потом обменивались на бумажные купюры. Когда рублей набиралось десять, она складывала их вместе, сворачивала в трубочку и стягивала черной резинкой, вырезанной из старой велосипедной камеры, чтобы на рынке обменять желто-коричневые рублевые бумажки на любимую желто-розовую десятку, которую при случае отнести в сберкассу и положить на книжку. Бабушка сильно переживала, что у нее нет трудового стажа и ей не положена пенсия, поэтому сберкнижка была для нее единственной возможностью обеспечить свою старость.
Она скопит тысячи рублей – сумму, достаточную, чтобы купить квартиру или автомобиль, но умрет в 1991 году, как раз накануне гайдаровских реформ, трудясь до конца, так и не прикоснувшись к своим капиталам и не оставив завещания. Когда Егор спустя полгода вступит во владение ее вкладом, на эти деньги можно будет приобрести, к примеру, утюг.
Зимой Егору предложили поехать на областной конкурс молодых поэтов. В качестве провожатого с ним был отправлен учитель литературы Антон Васильевич, бесцветный человек среднего роста и телосложения, но обладавший одной отличительной чертой: высоким звонким голосом – почти девчоночьим.
Ведомый этим провожатым, Егор долго блуждал по улицам областного центра – Антон Васильевич все время путался в адресах. Периодически они искали телефон-автомат, просили у прохожих двухкопеечную монету, учитель звонил, задавал кому-то на проводе кучу вопросов своим высоким и звонким голосом, подробно выяснял дорогу, говорил, что теперь наконец-то все понял, и блуждания возобновлялись. Есть такая порода людей, которых не стоит брать в проводники.
– Вот так, – добродушно подмигивал Антон Васильевич замерзшему Егору, накручивая в очередной раз телефонный диск. – За дурной головой и ногам лихо!
К месту проведения конкурса – школе-интернату, ученики которой разъехались на каникулы, – они добрались поздно вечером, пропустив ужин, и без сил повалились спать.
С утра все сразу загудело и закрутилось. Поэтов съехалось – тьма! Егор оказался в числе самых младших. Всех разбили на группы и развели в разные классы, чтобы отобрать в каждой по три человека победителей, которым уже завтра предстояло выступать на пленарном заседании в актовом зале. А на третий день жюри должно было огласить свой вердикт: три призовых места всего конкурса.
Работа в группах началась. Егор, затаив дыхание, смотрел, как красиво одетые, уверенные в себе ребята выходят к доске и декламируют свои стихи – умело, по-взрослому, с придыханием, с подвыванием, с разрубанием рукой воздуха на эффектной концовке. Вот, оказывается, как надо. Он так не сможет. Егору теперь казалось, что его стихи – никудышные, в подметки не годятся. И не прочтешь их так – громко, артистично. Они у него какие-то тихие. Ему было стыдно за свои потертые ботинки, застиранную рубашку и пуловер не по размеру, подаренный бабушкой «на вырост».
Поэтому, когда подошла его очередь, Егор торопливо вышел, прочел, смущаясь, одно стихотворение про криницу и поспешил вернуться на место. Но куратор их группы остановил его:
– А еще у тебя стихи есть?
– Много.
– Почитай нам, не стесняйся.
Его выдвинули на пленарное заседание в числе тройки победителей группы. На завтраке к нему подошло несколько ребят, с которыми он состязался накануне, а с ними – и совсем незнакомые:
– Слушай, а почитай нам свои стихи.
– Про карагача!
– Про камышинку!
А красивая девочка с аккуратной челкой и яркими зелеными глазами сказала:
– Мне понравилось про вот тот горный цветок, что всегда зацветает перед извержением вулкана! Как он там называется?
Егор, польщенный таким неожиданным вниманием, бросил еду, встал и начал было читать, но тут вмешался подошедший с подносом Антон Васильевич. Ребят он разогнал, а своего подопечного заставил есть:
– Ты, Егор, это брось! Ты себя цени! Ты – талант. Может, не Пушкин, но искра Божья есть. Не позволяй им вытирать об тебя ноги! Ишь, нашлись! Поесть не дадут. Без моего разрешения чтобы больше никому ничего не читал!
Когда на третий день председатель жюри стал называть фамилии победителей, Егор всеми силами старался притушить в себе надежду и не показать разочарования, но лицо его все равно выдавало всю гамму переживаний – благо никто этого не видел, все смотрели на сцену.
– Третье место присуждается… Второе место присуждается…
Какие они счастливые там, на освещенной сцене, им хлопает весь зал! А он тут в старых жмущих ботинках и несуразном пуловере, никому не нужный, безнадежно влюбленный в зеленоглазую девочку, которая где-то в другом конце зала со старшими ребятами.
Председателю пришлось дважды повторить его фамилию, прежде чем до Егора дошло, что ему присуждено первое место. Он поднялся и увидел, как разом повернулись к нему лица всех присутствующих. Охваченный радостью и смущением одновременно, он вышел на сцену актового зала, получил красивую грамоту и услышал, что поедет в Ленинград на две недели вместе с победителями конкурсов музыкантов и художников.
Егор был счастлив, особенно когда высмотрел в зале девочку с челкой и увидел, как она горячо ему аплодирует. Он, конечно, гордился собой, был исполнен благодарности ко всем окружающим, считал свою победу чудом, но совершенно не осознавал, что истинное чудо – это само существование такого конкурса, где победитель не определен заранее.
Когда обратный автобус оставил освещенные улицы большого города и нырнул в степную темень, Егора снова охватила тоска и вспомнилась дорога после той прощальной встречи с мамой. Вот бы она сейчас обрадовалась! Глядя в темноту за стеклом, он прошептал:
– Мама, ты же видишь? Я стараюсь! Я тебя не подвожу!
Выйдя из автобуса, Антон Васильевич предложил проводить Егора домой, но тот вежливо поблагодарил и заверил, что хорошо знает дорогу.
– Спасибо, не волнуйтесь, я правда доберусь, – повторил он, видя нерешительность провожатого. И, засунув грамоту под пальтишко, прижимая ее рукой, чтоб ненароком не выпала, побежал, представляя, как удивится отец, если будет не слишком пьяным.
К вечеру мороз здорово окреп и жег щеки. Дворы и улочки были засыпаны рыхлым, белеющим в темноте снегом, а в безоблачном черном небе мерцали холодные колючие звезды.
Дом встретил Егора слепыми темными окнами. Как все-таки отличается темный дом от того, в котором светится хотя бы одно окошко! Настроение сразу упало. Во дворе под ноги радостно кинулся их маленький беспородный пес Дозорка, вертясь и яростно колотя хвостом. Егор нащупал в темноте под крылечком ключ и, поднявшись по ступенькам, потянулся к неясно черневшему на двери навесному «амбарному» замку.
И тут что-то огромное, черное и страшное зашевелилось прямо у его ног. Мальчишка не просто испугался – его вдруг разом перенесло из реального мира в какой-то другой, фантастический, полный леденящего ужаса. Дыхание остановилось, и тысячи иголочек мягко вонзились в тело со всех сторон, лишая сил.
– Фу, Дозорка, фу! – заплетающийся пьяный голос отца вернул Егора в реальность. Огромное ночное чудище во тьме мигом схлопнулось, приняв вид набравшегося в стельку родителя, который лежал поперек крыльца под самой дверью, неуклюже отмахиваясь от собаки, лижущей его лицо.
Егор отпер замок, кое-как втащил отца в дом и сел, не раздеваясь, держа в руках примятую грамоту. Он чувствовал: вот-вот – и расплачется. Снова сунув грамоту под пальто, он поднялся, вышел на крыльцо к суетящемуся Дозорке и прикрыл за собой дверь. Ноги сами понесли его к дому Пшеничных, окошки которого светились теплом в ледяной бесприютности зимнего вечера.