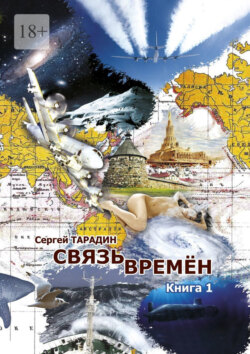Читать книгу Связь времён. Книга 1 - Сергей Петрович Тарадин - Страница 5
ГЛАВА 3. МАМА
Оглавление– Я не знаю, сынок, откуда у меня взялась такая тяга к учебе, но учиться я хотела по-сумасшедшему. В школу с кордона было ходить километров пятнадцать – представь, зимой по непроходимому снегу! Мама, твоя бабушка, частенько говорила: «Брось ты ее, эту школу, извелась уже вся! Читать-считать умеешь, что тебе еще надо?» А я не могла остановиться, хотела учиться дальше и дальше. Мечтала стать учителем.
В той школе было только восемь классов. Все мои подружки даже эти восемь не отходили, побросали. А я закончила – да и объявила маме, что поеду в город поступать в педучилище. Она в слезы. Учебники мои сожгла, приговаривая: «Книжки тебя кормить не будут!»
А вышло, видишь, что как раз книжки меня и кормят.
Все-таки добилась, поехала, поступила. Время было голодное – первые послевоенные годы. Желудок у меня болел – до умопомрачения. То, что давали в училищной столовой, я совсем есть не могла. Приеду к маме на выходные товарняком до ближайшей станции, потом по лесу пешком. Пока добреду – ночь. А утром – обратно. Мама и рада бы мне что-то дать, да у самой ничего нет. Одну коровку удалось ей сохранить после войны, но молоко пить мы не могли, потому что был план сдачи масла. У всех, кто имел коров, собирали масло и отправляли на Москву. На это масло уходили все сливки. Нам доставался только перегон. Возьму я два бидончика этого перегона – и пешком через лес обратно к станции. Вот и вся моя еда на неделю.
Сижу над учебниками, а желудок от голода так болит, что строчки перед глазами расплываются. Упрусь животом в край стола что есть силы – вроде чуть легче, учу дальше. Когда были семечки, лузгали их все время, чтобы голод перебить. Семечки нас спасали – знаешь, над ними еще в войну немцы смеялись, называли их «сталинский шоколад». Но для желудка они нехороши – после них он болел еще сильнее.
И все-таки выучилась, получила распределение в маленький поселок, повела свой первый класс. Комнатку мне дали при школе. Приду с занятий – холодно, печка потухла. За углем к котельной ходить приходилось, он мелкий, мокрый, посмерзается глыбами. Но ничего, наколю, печку растоплю, а она старенькая, вся в трещинах – огонь отовсюду видно. И, знаешь, какая я тогда счастливая была! Все повторяла про себя: «Я – учительница!» Гордилась.
– В тот год я и встретила твоего отца. Он только вернулся с войны – их на три года в Берлине задержали. Военный летчик. Тогда все в форме ходили: во-первых, с одеждой туго было, а во-вторых, гордость какая – победители, да и просто привыкли уже за войну. Петлицы у него на форме были, знаешь, такого василькового цвета и чуть-чуть с сиреневинкой. И, помню, меня поразили его глаза – точно того же цвета. Он же постарше, а мне тогдашней казался совсем зрелым мужчиной, даже неудобно – почти девять лет разницы!
Но он был такой уверенный – в себе, в нас, в будущем!
«Ты не переживай, Настя, – говорил он мне, убеждая выйти за него, – я, если головы не хватит, руками могу зарабатывать, я же все умею: и плотничать, и сапожничать, и лодку могу сделать, да что там лодку – дом могу с нуля сам построить, вот увидишь. А здоровье у меня – прадед сто четыре года прожил! Дед вон до сих пор как огурчик».
И правда, ты же знаешь, руки у него золотые. И голова светлая. Горло подвело. Очень уж охочее до выпивки оказалось.
Я до свадьбы никак этого распознать не могла. Мы если где в компании бывали, он всегда говорил: «Водка? Нет-нет-нет! Мне только красненького полстаканчика». Да и то за весь вечер не допьет. Я еще радовалась: надо же какой! Вокруг-то все любили за воротник заложить. В то время к этому как-то мягко относились. Главное, дескать, врага одолели, а это уж – мелочи. Живы остались, руки-ноги целы, остальное приложится. Да война ведь – она не только ранила и убивала, она еще и спаивала. Знаменитые наркомовские сто граммов – они не на одно поколение след потянут. На фронтах война закончилась, а в семьях началась. Там мы победили, а здесь проиграли.
Я с детства испытывала отвращение к выпивохам, но никогда даже и представить себе могла, какой страшной бедой, каким ужасом может обернуться пьянство, как оно способно овладеть человеком. И мне на примере собственной жизни пришлось убедиться, что от этого порока не спасают ни образованность, ни положение в обществе, ни дружба, ни любовь, ни семья. Всегда помни, сынок, что эта пропасть – рядом, и всегда опасайся сделать туда шаг.
Первый раз отец набрался прямо на нашей свадьбе. Я еще не видела, чтобы люди так напивались – до полного бесчувствия. Вот такая у меня была брачная ночь: гости разошлись по домам, жених спит на лавке, а невеста плачет рядом. Его старший брат, уходя, так и сказал мне:
«Эх, Настя, Настя! Ты что, не знала? Да он же слабенький по этой части! Ох какой слабенький. Он и тебя пропьет, и все на свете».
– Но я решила бороться. Убедила его, что надо учиться. Он поступил в финансовый техникум. Я работала и тянула на себе все хозяйство – мы тогда коровку завели, на одну голую зарплату было не прокормиться. Техникум он закончил с отличием. Начал работать в отделении Госбанка и быстро вырос до управляющего. У него был талант – и к финансам, и к управлению людьми. Потом банки стали укрупнять, ему предложили отделение побольше с перспективой перевода в область, и нам пришлось переехать. Мне было жалко бросать обжитое место, свой класс, но все равно я была рада. Главное – оторвать его подальше от дружков-собутыльников.
Я как могла старалась отвлечь его от выпивки, занять чем-то. Подсобрала денег – экономила на самом необходимом – и подарила ему фотоаппарат с целой лабораторией. Он колдовал там часами.
– При красной лампе, чтоб не засветить пленку и бумагу, – вспомнил Егор.
– У него получались отличные снимки. Вообще, он обладал удивительным умением хорошо сделать то, чего никогда раньше не делал и чему нигде не учился. По военной привычке он все еще ходил на работу в галифе и сапогах. И вот выяснилось, что местные портные шить галифе не умеют. Тогда он принес домой сукно-диагональ, распорол старые галифе, сделал по ним выкройку, а я на машинке застрочила. Получились не хуже фабричных!
Люди вокруг считали, что мы – идеальная семья. И только я знала, что семья эта летит в пропасть. Потому что он пил все больше и больше. Все, конечно, судачили о том, что он выпивает, но говорили – а кто не пьет?
Я тогда корила себя. У нас ведь долгое время не было детей. Наверное, сказалось мое голодное детство. Я знала, как он хотел сына, и оправдывала его пьянство – думала, что он терзается и глушит боль.
А потом родился ты. Наверное, все матери дочерей кинулись бы сейчас со мной спорить, но, знаешь, для женщины – произвести на свет мужчину, мне кажется, это особая гордость. Не просто свое подобие, а нечто совершенно иное.
Ты дался мне нелегко. У меня стали тромбы в ногах образовываться. Врач сказал: «Вы должны лежать. Встанете – умрете».
Но куда деваться? Тебя же пеленать надо. Бинтовала ноги и вставала.
Впрочем, самое тяжелое было в другом. Отец в эти трудные для меня дни не пришел к больнице ни разу. Нянечки с удовольствием рассказывали мне, как он кутил по всему нашему городку – праздновал рождение сына. А на сына-то даже и не взглянул. Этого я ему простить уже не могла.
Когда он наконец заявился меня забирать, опухший и все еще нетрезвый, я спросила: «Слушай, ну, говорят, люди пьют от горя, но у тебя-то какое горе? У тебя же все есть! Теперь даже сын, о котором ты мечтал! Ты-то отчего пьешь?» А он улыбается глупой пьяной улыбкой и отвечает: «От радости». Его водка как будто подменяла.
Мама немного помолчала, воспоминания печалили ее глаза.
– Я так мечтала встретить в жизни большую любовь. Чтобы отдать себя всю без остатка, но и взамен получить полную открытость и честность. И мне казалось, что я встретила именно такого мужчину. И, знаешь, я даже не могу сказать, что ошиблась. Твой отец действительно умный и достойный человек. Когда трезвый. А пьяный он превращается в какого-то чужого дурачка. Хвастливого, безответственного, жуликоватого, агрессивного. В зависимости от стадии. И видеть каждый раз эту метаморфозу невыносимо. Два совершенно разных человека в одном теле. И насколько я любила одного, настолько же ненавидела другого. Мне верилось, что рождение сына все изменит, излечит его, а вышло наоборот. Но больше всего я боюсь, чтобы ты не последовал его примеру…
– Ну ты что, мам!
– Да я надеюсь, что ты насмотрелся и что у тебя хватит воли и разума не пойти по этой дороге. Но, знаешь, это гораздо труднее, чем тебе кажется сегодня. Сколько сыновей осуждали отцов за пьянство, а потом становились их собутыльниками! Я поэтому и старалась, когда в институте училась, тебя к бабушке в лес отправлять, не оставлять с отцом. Чтоб ты не привыкал к обстановке разгула – он же вечно всех дружков своих домой тащил.
Так что запомни: даже если меня не будет рядом, как бы ни сложилась твоя жизнь, не подведи меня, обещаешь? Иначе я просто зря жила на свете. Ну, ладно. Заговорились мы с тобой, а мне еще собраться надо. И голову помыть. И искупаться. Завтра автобус рано утром.
Мама пошла на кухню. Там на табуретке стоял приготовленный таз. Сдвинув гревшееся на печке ведро, она подцепила кочергой чугунные кольца и закрыла конфорку. Вылив полведра в таз, добавила холодной воды, пробуя температуру ладонью, и, наклонившись над тазом, стала намыливать свои красивые каштановые волосы туалетным мылом «Красная Москва». А потом, споласкивая их, добавила в ковшик ложку уксуса для смягчения воды.
Этот разговор в воскресный вечер 1969 года Егор запомнил так ясно, что даже через много лет виделся ему свет той лампы без абажура, что свисала на витом проводе с деревянного потолка, крашенного белой краской. И глаза мамы, смотревшей на него с такой печальной любовью, что он – был бы младше – точно расплакался бы, но, чувствуя себя уже взрослым, просто молчал, притихший и потерянный.
Мама собиралась утром ехать в областной центр, в больницу на обследование – боли в желудке стали просто невыносимыми. Отца еще не было – где-то пьянствовал. Его уже понизили в должности и грозились уволить, но на него ничего не действовало. Он пил каждый день, считая кого угодно виноватым в своих бедах, но только не себя и не свой порок.
– Что? Выпивка? Да я захочу – в любой момент брошу!
– Ну так брось!
– А зачем?
В этот вечер он вернулся за полночь, громыхнул чем-то в коридоре, зажег в зале яркий свет и на полную громкость включил радиолу. Когда мама и сонно щурящийся Егор осторожно вышли из спальни, отец уже спал на диване, не сняв сапог и громко храпя.
Через неделю Егора окликнула на улице знакомая женщина:
– Я племянницу ездила проведать, видела твою маму. Ее на операцию кладут. Просила, чтоб отец тебя привез. Передай ему, хорошо?
– Хорошо, тетя Клава, я передам.
Вечером Егор сделал все уроки, поужинал тем, что нашел, и сел ждать отца. Тихонько тикали часы, горела настольная лампа. И неожиданно как-то сами собой, даже не в голове, а где-то в груди Егора стали складываться стихи, просясь наружу вместе с дыханием и трогая шепотом губы.
Егор достал из портфеля, уже собранного к школе, авторучку, раскрутил колпачок, почистил перышко и на бумаге в клетку стал строчку за строчкой записывать ровные колонки строф, кое-где перечеркивая слова и аккуратно надписывая новые.
Он и раньше любил составлять рифмованные строчки. Мама, когда они бывали в лесу, иногда говорила:
– Посмотри, какими искорками горят росинки на полыни! Ты видишь, в лесу даже после дождя не бывает грязи. И ветер – он там, в верхушках шумит, а тут – тихо, только блики на траве колышутся. Смотри, какой причудливый ствол у того старого карагача на косогоре. Что он тебе напоминает? Правда, как будто из земли торчит узловатая рука? Вроде это даже не холм, а сказочный великан заснул, а одна рука выбилась из-под пушистого зеленого одеяла, которым он укрылся. Опиши это стихами, попробуй. Я вот очень хотела бы, но у меня не получается, как-то дальше первой строчки – не идет, а у тебя должно получиться, я чувствую.
Вера родителей в успех ребенка – самый надежный фундамент его достижений.
Иногда мама просто подбрасывала сыну одну-две строчки, например:
Редеют кроны,
Желтеют листья…
И восьмилетний Егор тут же подхватывал:
Был лес зеленый —
Стал золотистый!
Это было – как игра.
Егор проснулся утром. В доме он был один. Отец не возвращался. Настольная лампа все еще горела, на столе лежал листок со стихами – Егор сам не заметил, как заснул одетым на нерасстеленной кровати. Пора было идти в школу. Но Егор почувствовал такую острую тоску по матери, что решил непременно увидеть ее сегодня. Он выгреб и пересчитал всю мелочь, которую копил в старой шкатулке. На билет до областного центра не хватало. Егор поискал по карманам плащей и пальто в шкафу. Нашлось еще несколько монеток. Собрав всю мелочь в карман, он отправился на автовокзал.
Войдя без билета в большой старый автобус, он прошел в самый хвост и сел на задний ряд к окошку. В будний день пассажиров было немного. Когда водитель, взойдя на подножку, пересчитывал всех по головам, Егор пригнулся, прячась за спинкой предыдущего сиденья. Автобус тронулся.
Больницу он нашел, расспросив прохожих о маршруте. Дежурная в приемном покое поворчала на него за то, что он не знает номера палаты, но потом нашла в книге нужную запись:
– Жди вот там, на стульчике, сейчас позовут.
Мама вышла в стареньком застиранном больничном халатике. Егор бросился к ней, и она обняла его, целуя и гладя ему макушку.
– Сыночек, родной мой, вы все-таки приехали. А я уже отпрашивалась сегодня, чтоб к вам ехать – вижу, вас нет. А где отец?
– Мам, я сам приехал.
– Как сам? Один? И он тебя отпустил?
Мама посмотрела на Егора испуганными глазами.
– Мам, ты не переживай, я уже взрослый. Видишь, я сам тебя нашел.
– Родной ты мой, взрослый. Не надо – люди ведь разные встречаются.
Они сели на потертые стулья, обитые коричневым дерматином.
– Да ладно, мам, все хорошо. Ты-то тут как?
– Да как, сынок. Смотрел меня профессор, говорит, надо срочно оперироваться. Тянуть нельзя – уже почти полный стеноз, то есть непроходимость желудка. А отчего – никто не знает. Подозревают опухоль, но точно увидят, только когда разрежут. Такая, видать, моя доля. Кому жизнь – радость, а у меня – долг. Я не ропщу. Просто как же ты-то будешь, если со мной вдруг что? Нельзя мне сейчас уходить!
Мама посмотрела на Егора, как смотрит, наверное, раненая птица на своего птенца, которого она не может больше защитить от клыков и когтей. Она не сдержалась и заплакала, прикрыв лицо руками. Егора поразило, какого они желтого, неживого цвета.
– Извини, сынок, это я так, – мама постаралась овладеть собой и улыбнулась, утирая слезы. – Ничего, бог даст, все будет хорошо. У тебя как дела? Что ты сегодня кушал?
– Я не голодный, мам, спасибо.
– Где ты взял деньги, чтобы доехать?
Обратный автобус шел уже в темноте. Егор сидел у окна, вглядываясь в бесконечную тьму и высматривая далекие одиночные огоньки. Весь мир был чужим, бесприютным и тоскливым. Егор сунул руку в кулек, который ему дала мама «на дорожку», и достал кусочек печенья. Оно пахло больницей.
Операция прошла успешно. Самого страшного, чего опасались – злокачественной опухоли – не было. Стеноз возник из-за наслоения рубцов от многолетней язвы. Сделав резекцию, профессор еще раз осмотрел операционное поле и кивнул:
– Шейте. Все нормально. Еще поживет.
Он был хирургом от бога и, хотя операция этим методом очень травматична, сделал все ювелирно, щадяще. Получилось красиво, аккуратно, и профессор покидал операционную удовлетворенным.
А вот медсестра Валя в это время, напротив, готова была себя убить. Новые капроновые чулки со швом – и дырка на второй день. Только вчера она почти час крутилась и пританцовывала перед зеркалом, защепив пальцами и приподняв подол юбки – любовалась модным оттенком, который придавали чулки ее стройным ногам. Тем более на Новый год она грохнула чуть ли не ползарплаты, но сделала себе подарок: купила гэдээровский кружевной пояс! Это вам не советское сатиновое убожество, лежавшее на прилавках. У спекулянтов взяла, восемь рублей сверху! Вообще, такие чулки, со швом, они же не на каждые ноги сядут. Вон Любка с ее кавалеристскими гачами как наденет – святых выноси! Еще и перекрутятся они у нее обязательно. А у французов, между прочим, как говорили Вале знающие люди, есть пословица: лучше две морщинки на лице, чем одна на чулке! Это Валя запомнила на всю жизнь! И она особенно глубоко, всей душой чувствовала себя женщиной, когда шикарные чулки как влитые красиво облегали ее ноги. И вот – на тебе. Зацепилась за старый стул, когда переодевалась к смене. Зачем она вообще их сегодня надела – Леша ведь не дежурит. Но под белым халатиком они смотрелись так отпадно, не удержалась. И теперь вот ходи в зашитых. Когда еще удастся купить новые! Один вопрос – деньги, на ее зарплату не разбежишься. А второй – где такие достанешь? Шла – случайно выбросили в конце месяца. Рижская сеточка!
– Ладно. Надо работать, – взяла себя в руки Валя. – Так. Кто там у нас сегодня после операции…
Отделения реанимации, именуемые тогда «противошоковыми кабинетами», где каждому больному обеспечивается индивидуальный присмотр, пока что существовали только в нескольких крупных медицинских центрах страны, а на периферии больных с операции сразу везли в общие палаты.
– Так, в шестой мужчина, пятьдесят два года, удаление желчного пузыря… В восьмой – женщина, сорок лет, резекция желудка…
Что-то дежурный врач говорил сделать по поводу этого дядьки из шестой, но Валя была так расстроена проклятой дыркой, что даже не расслышала. Ладно, пусть пока лежит. Не забыть потом переспросить. А сейчас надо поставить капельницу тетке. Валя еще раз посмотрела лист назначений, взяла зажим, достала из стерилизатора рыжие резиновые трубки и стала подсоединять к ним стеклянные детали капельницы. Наконец система была готова, и, принеся ее в палату, Валя четко, с первого раза ввела иглу в вену пациентки. Молодая медсестра всегда гордилась своим умением безошибочно попадать в сосуд. На самом деле это даже от опыта не всегда зависит – бывает, со стажем медсестра, а по нескольку раз перекалывает, и все то мимо, то насквозь. А бывает, пигалица приходит – и в такие ниточки попадает, что их и венами-то можно назвать только из вежливости.
Металлическое колесико на старой капельнице прокручивалось в резьбе и плоховато зажимало трубку. Вале пришлось помучиться, пока она установила нужную скорость введения. Но вот вроде ничего, держится. Валя потрогала пальцами кожу руки вокруг иглы – не поддувает ли? – и мельком взглянула на пациентку:
– Господи, трупяк трупяком. Вообще, после сорока, по-моему, лучше уже и не жить – кто на тебя посмотрит?! Ладно, надо будет не забыть зайти, проверить скорость капельницы.
Ее позвали из четвертой палаты – пожилой пациентке стало плохо с сердцем. Пришлось вколоть камфару. Дежурство пошло по накатанной. В голове опять крутилась эта чертова дырка. Если аккуратно зашить… нет, ничего не выйдет – место видное. Бесполезно. Если бы просто петля поползла или затяжка – она бы ювелирно сделала, но это же рижская сеточка! Она вообще не ползет! Ее порвать – еще умудриться надо! А тут, как назло, прямо с мясом вырвало. Вот такая дырища! Как ни стягивай, все равно позорище будет.
Свернутое колесико старенькой многоразовой капельницы слегка шевельнулось, и маленькие капельки, мерно падавшие в стеклянной трубочке, зачастили, постепенно сливаясь в тоненькую струйку.
Валя помнила точно, сколько какие чулки она проносила. Рекорд был – почти год! А тут – в первый же день.
– Обидно, просто обидно! – не могла успокоиться она.
– Что? – переспросил пациент.
– Нет-нет, ничего… – улыбнулась Валя. Она поняла, что бормочет свои мысли вслух. – Все в порядке. Извините…
И тут же нахмурилась: «Ой, совсем забыла – капельницу у тетки надо проверить!»
Мама умерла от острой левожелудочковой недостаточности, а можно сказать – оттого, что многоразовая капельница была старой и негодной, а еще можно сказать – оттого, что медсестра Валя порвала чулок.
Похороны пришлись на дождливый день, но в последний момент выглянуло солнышко. В такие моменты люди склонны видеть в погоде какое-то сопереживание. Хороним в дождь – значит, природа плачет вместе с нами. Хороним в погожий день – значит, светлого человека провожаем. Есть в этом что-то лживо-надуманное как в индийском кино, где стоит героям поссориться – тут же обрушивается ливень, а едва они помирятся – сияет солнышко.
Егор ехал в кузове грузовика, везущего гроб, вместе с плачущей родней. Он не плакал. Не было ни слез, ни мыслей, только одна фраза по кругу повторялась в голове: «Вот и все. Мамы больше нет».
На кладбище он наклонился к гробу в последний раз поцеловать маму, и его ладони легли на ее скрещенные под саваном руки. Это неожиданное соприкосновение вдруг вывело Егора из полусонного ступора. Трудно объяснить, но у него возникло ощущение, что в эту минуту они с мамой заключили молчаливый, только им ведомый договор. Он почувствовал, что мама здесь, с ним. И она останется с ним, но только об этом никто не должен знать.
Когда гроб опустили в узкую темную щель могилы, отец, трезвый и хмурый, бросил туда горсть земли и, отходя в сторону, увлек за собой Егора:
– Все, сынок, нет больше нашей мамочки.
Егор теперь знал, что это не так. Он вывернулся из-под руки отца и исподлобья посмотрел ему в глаза. Тот, пряча взгляд, полез в карман за носовым платком.
На поминках люди садились за длинные, сдвинутые из нескольких столы, пили водку из разнокалиберных, собранных по соседям стопок (первую – скорбно, а третью – уже смачно) и с аппетитом ели. Отец не удержался, перебрал, его стало развозить, и хмурая скорбь превратилась в пьяные сопли. Шум за столами нарастал, и скоро только черные платки да отсутствие гармошки отличали это застолье от любого другого.
Егор незаметно ускользнул в сад, в самый дальний угол. Он присел на корточки, спрятавшись от чужих взглядов, и только здесь из его глаз неудержимо брызнули слезы.
То одно, то другое воспоминание вспыхивало в его памяти, обдавая волной тепла и тоски.
Вот он в январе, загулявшись до глубокой темноты, вбегает с мороза в ярко освещенную кухню, а там мама делает вареники. Она шумовкой вынимает их из кипящей воды, и они исходят ароматным паром – маленькие, аккуратные.
– Мама, а почему ты делаешь их такими маленькими?
– Это только у ленивых хозяек они здоровенные, как лопухи. А маленькие вареники лучше провариваются, не разваливаются и поэтому вкуснее.
А вот они в июле выбрались искупаться на речку. Он бежит из воды, цокотя зубами – перекупался, и мама подхватывает его, закутывает в пушистое китайское полотенце с этикеткой «Дружба», обнимает. Рядом на траве на чистой скатерочке уже разложены крупные красные помидоры и в обмотанной тряпицей кастрюльке – горячий молодой картофель в сливочном масле с укропом.
Неужели мы действительно проживаем короткую земную жизнь, чтобы потом обрести другую – вечную? Не будет ли та вечная жизнь бесконечной тоской по этой скоротечной, жестокой, бесценной земной жизни?
Мой чудный лес, мой лекарь и судья,
Познав азарт и пыль дороги дальней,
Вернулся я в твою исповедальню
Поговорить о сути бытия.
Как мало нам отпущено на жизнь
Желанных встреч, находок безобманных,
И лишь надежд, несбыточных и странных,
Так много нам отпущено на жизнь.
И полосу сменяет полоса,
И дни уходят, и видней потери.
И все труднее верить в чудеса.
И все сильнее хочется в них верить.