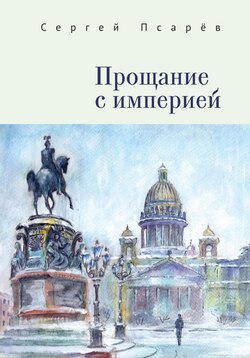Читать книгу Прощание с империей - Сергей Псарев, Сергей Псарёв - Страница 12
Русская Голгофа
О русской армии и принятой присяге
ОглавлениеВ это время Временное правительство теряло своих последних надёжных союзников в лице армии. Находясь в эмиграции, в беседе с Энгельгардтом, Керенский скажет, что «только Корнилов привёл Ленина к власти. Без него ничего бы этого не было»…
Чем же интересен генерал Лавр Корнилов? В то время, когда все говорили о революции, он был одним из первых, кто вспомнил о России. Зачем нужна революция, если из-за неё Россия должна погибнуть? Ему удалось сформулировать идеи, которые потом разделяли многие сторонники Белого движения. Широко известна речь генерала Антона Деникина, с которой он обратился к Александру Керенскому: «Вы втоптали наши знамёна в грязь, так поднимите их и преклоните перед ними колена, если у вас ещё осталась совесть». Униженные, оплёванные и загодя уже названные «контрой», фронтовые офицеры оказались сторонними наблюдателями событий грядущего Октябрьского переворота.
Корнилов понимал, что силой заставить солдат воевать против своего народа нельзя. Во время мятежа он смог бросить на Петроград только казачьи части и «дикую дивизию», составленную из представителей кавказских народностей. Впрочем, даже они сразу же остановились, узнав, что их обманом поведут против восставшего народа. Керенский, обратившийся за помощью к Советам, окончательно дискредитировал себя и закономерно проиграл.
В архиве Музея артиллерии сохранился любопытный документ, дневник кадрового офицера Цейтлина. В нём имеются записи, относящиеся к событиям октября 1917 года. «Абсолютная апатия людей. Мы наблюдаем, как город час за часом захватывают большевики»… «Ни против кого у меня нет такой злобы, как против этого фигляра – Керенского. Никогда он на меня не производил впечатления своими речами, жалкий адвокатишка, а сколько вреда наделал России. Верховный главнокомандующий, почти диктатор и без характера»… «Лениным и Троцким можно восхищаться. Можно их ненавидеть, не соглашаться, но это дела не меняет… А в общем их власть безусловная сила»…
И всё же захват власти большевиками в Петрограде не был похож на лёгкую прогулку. Уже после штурма Зимнего дворца в городе вспыхнул мятеж юнкеров. Одним из его очагов стало Владимирское училище на Петроградской стороне. Оно располагалось на Большой Гребецкой, ныне Пионерской улице. Его осаду, которая началась в ночь на 29 октября газеты того времени окрестили «Владимирской трагедией». Завязавшаяся перестрелка продолжалась до полудня. Потом здание училища было подвергнуто артиллерийскому обстрелу, развернулись полномасштабные боевые действия, появилось много убитых и раненых. Только в три часа дня окружённые юнкера выбросили белый флаг.
В самый разгар боя, когда вокруг свистели пули и рвались снаряды, жители окрестных домов услышали колокольный звон. Это били в домовой церкви Николаевской богадельни, которая находилась рядом. Очевидцы рассказывали, что многие красногвардейцы тогда опустили свои винтовки и начали креститься. Потом большая группа из них уже не стреляла, а ушла в соседнюю боковую улицу и уже не принимала участия в осаде. Несмотря на стрельбу пулеметов и звон битого стекла, в домовую церковь пришёл батюшка и отслужил обедню перед собравшимися прихожанами.
После захвата училища солдаты и красногвардейцы принялись искать засады и обыскивать с этой целью квартиры соседних домов. В одной из них они обнаружили и арестовали юного кадета, «как будущего юнкера». Наиболее возбуждённые красногвардейцы требовали его немедленно расстрелять. Однако, после долгих уговоров и слёз матери, этого молодого человека отпустили.
Страницы вышедшей тогда газеты «Правда» рассказывали о «братоубийственной ожесточённой схватке», завершившейся трагически. «Каким-то чудом вырвавшийся из осаждённого училища юнкер, схватил брошенное кем-то на улице ружье, убил на месте матроса и красногвардейца и в этот же миг был сам убит ударами прикладов. Другой юнкер, совсем юный, стоял на улице на коленях и умолял пощадить его, но толпа, не знающая пощады, не вняла его мольбам. Из окон училища чьи-то дюжие руки выбросили на мостовую женщину, как оказалось потом прислугу училища».
В том же номере газеты публиковались списки около полусотни революционных солдат, погибших в ходе подавления мятежа. В номере социал-демократической газеты «Новая жизнь» отмечалось, что «разоружение юнкеров сопровождалось кровопролитием и большим количеством жертв убитыми и ранеными». Их число с обеих сторон составило свыше двухсот человек.
Попутчиком журналиста «Петроградской газеты» в тот день оказался совсем юный солдат, «добродушный и коренастый с виду». Он поделился с ним, что был участником «усмирения юнкеров». Газетчик, глядя на острый штык, примкнутый к его винтовке, поинтересовался, не применял ли его солдат у стен училища? «Нет, жалостливо было, штыком-то кадетов колоть… Я уж так, прикладом, – откровенничал солдат. – Скорее бы всё закончилось, товарищ… Устали мы, надоело всё это. Вот бы мир поскорее на фронте, да и в тылу тож…»
Вы когда-нибудь резали себе нечаянно пальцы? Каждому из них больно. Так некогда единый и прочный корпус Русской армии раскололся. Люди в военной форме присягали государю, а после его отречения, присягали новой сформированной власти – Временному правительству или Советам. Тот, кто когда-то носил погоны, хорошо знает, что присягу принимают только однажды, в этом заключается её особый смысл. Отступление от этого правила ломает понятие воинской чести, делает возможным не исполнять данную присягу. Любая смена политической власти в стране ставит военного человека перед сложным выбором. Даже действуя в этом случае по совести, очень легко переступить запретную черту.
Смена власти в стране застала меня на Байконуре. Думаю, что ни себе, ни военной присяге мы тогда не изменили, даже когда неожиданно оказались в чужой стране. Космодром продолжал жить и работать. Новой клятвы от нас не требовали. Кто-то уволился из армии и вернулся домой, остальные служили своему Отечеству уже под трёхцветным знаменем…
А тогда многие думали, что можно избежать большой крови. Феликс Дзержинский «под честное слово не выступать против Советской власти» согласился выпустить из Петропавловской крепости генералов, арестованных за участие в мятеже. Не срослось, восстание Чехословацкого корпуса составленного из бывших военнослужащих австро-венгерской армии и формально подчинявшихся французскому командованию, спустило спусковой крючок страшной братоубийственной войны.
Гражданская война – всегда явление особое, как и её характер, методы и способы ведения. Здесь война ведётся против своего населения, на собственной территории и с особой жесткостью. Десятки тысяч офицеров придут в Добровольческую армию, и это будет их сопротивлением новой власти. Другие тысячи их по разным причинам уйдут к большевикам, они станут военспецами и обеспечат Красной армии победу в гражданской войне. Кто-то потом захочет продолжить свою борьбу с Советами и начнёт сотрудничать с нацистами, как генералы Краснов и Шкуро.
В этой связи уместно вспомнить судьбу подпоручика Михаила Шванича немецко-польского происхождения, крестника императрицы и бывшего адъютанта князя Потёмкина. Его все больше знают как Швабрина из пушкинской «Капитанской дочки». Затерянная в степи маленькая крепость и двое молодых офицеров, страстно влюблённых в дочь коменданта Машеньку Миронову. По долгу военной службы мне и самому, не однажды, приходилось бывать в Оренбургских степях. Хороший Петруша Гринёв остался верным своей присяге и поставленный на колени перед мужицким «амператором», руку его жилистую не поцеловал. По воле автора за него вступился верный слуга Савельич. Опять же, подаренный заячий тулупчик самозванцу хорошо запомнился. Швабрин по повести и в жизни оказался трусом и предателем, ручку целовал и пошёл на службу к Емельяну Пугачёву, за что и был пожалован у него есаулом.
После казни бунтовщика Пугачёва и его ближайших сторонников Михаила Шванича лишили чинов и дворянства, сослали в далёкий и мрачный Туруханск. В вину ему тогда поставили измену дворянскому достоинству и воинской присяге. Ни Павел, ни Александр I впоследствии так и не простили его. «Перемётчик – хуже врага» – была когда-то такая хорошая русская пословица. Похоже, что и для Александра Сергеевича он тоже «был злодеем во всём». Говорят, что над «Капитанской дочкой» он тогда работал параллельно с «Историей Пугачёвского бунта». Очень любопытно, чтобы Пушкин написал о нас и нашем времени?