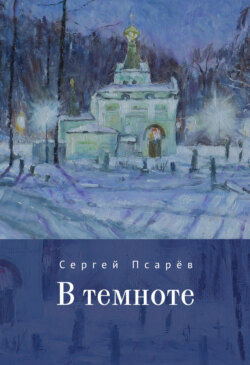Читать книгу В темноте - Сергей Псарев, Сергей Псарёв - Страница 25
В темноте. Рафаэль
В Академии художеств
ОглавлениеОни отправились на Васильевский остров, в Академию художеств. Вместо привычной строгой охраны в форменной одежде на входе у тяжелых дверей дежурили волонтеры, юноши и девушки. Их лица наглухо скрывали черные медицинские маски, но все равно было видно, что все находились в добром расположении духа. Одеты были волонтеры тоже во все черное. Впечатление о ночном городском карнавале от этого только усиливалось.
Уже через полчаса Ивану предстояло рассказывать о Рафаэле Санти на академической музейной выставке, приуроченной к 500-летию со дня его смерти. Ее собрание представляли копии гения эпохи Возрождения, созданные выпускниками Академии художеств, которым посчастливилось побывать в Италии.
Великого итальянского художника из Урбино уже при жизни называли не иначе как «божественным». Все видели в нем одного из величайших гениев, «отмеченного небом» творца. Спустя столетия слава великого мастера продолжала расти, превратившись в своеобразный эквивалент самого прекрасного, что только могло быть на свете.
Обращение к творчеству Рафаэля со времени правления Екатерины II стало частью обязательной учебной программы в Петербургской академии художеств. По традиции лучших выпускников отправляли за границу для совершенствования их мастерства. Им присуждали большую золотую медаль за успехи в учебе и оплачивали поездку на несколько лет в Италию. Там они по заказу академического совета делали копии работ великих мастеров и присылали их сюда. Пик копирования живописи, рисунков Рафаэля выпускниками Академии пришелся на 1820–1830 годы.
У Ивана полчаса времени на проведение экскурсии с группой из десяти человек. В выставочных залах музея царил полумрак, и лишь освещенные лица и фигуры на живописных полотнах выступали яркими цветовыми пятнами. Из-под длинных бархатных ресниц «рафаэлевы Мадонны» следили за ним своим рассеянным взглядом. Что можно ожидать от этого незнакомого человека? В их глазах читалось женское любопытство и немой вопрос. Мадонна – символ вечности мира, а у великого мастера – это еще и радость матери, державшей на руках своего малого ребенка. Они у Рафаэля не бестелесные святые, а живые, теплые и осязаемые. Можно ли тронуть своим простым человеческим словом такую божественную красоту, не оскорбив при этом их великого создателя?
Свой рассказ Иван начал с того, что выставка позволяет представить творчество Рафаэля во всей полноте – от ранних маленьких картин в духе его учителя Перуджино до огромных фресок Ватикана и самой последней работы мастера «Преображение». Все они выполнены копиистами в свою натуральную величину. Такая копия – совсем не подделка. Все зависело от цели, с которой она делалась. С их появлением творчество великого Рафаэля становилось доступнее. В общем, значение таких работ выходило далеко за рамки учебных задач и позволяло познакомиться с шедеврами живописи в стенах Академии, не выезжая в Италию. Это выглядело особенно актуально сейчас, когда большинство музеев мира оказались закрытыми.
Они медленно, от картины к картине, двигались по залам выставки, а он все не мог преодолеть своего «стартового» волнения, пока собственный рассказ не дал ему привычного эмоционального возбуждения. Почувствовал, что слушать его стало интересно. Теперь Мадонны и бородатые святые смотрели на него с картин ободряюще и заряжали своей энергией.
Иван поглядел на Марью, она тоже слушала внимательно и слегка кивнула ему головой. Значит, пока все хорошо. Нужно не увлечься, успеть изложить весь материал и пройти с группой до конца второго зала. Потом у всех останется время для свободного просмотра выставки.
Наверное, желание современного художника скопировать работу старого итальянского мастера показалось бы сейчас любопытным шагом, а тогда – это была почетная возможность проверить свои способности во Флоренции и Ватикане. Работа копииста требовала от художника исключительного мастерства, умения раскрыть, приблизиться и повторить особенности техники оригинала.
Представьте себе облик Рафаэля – этого полубога, великого итальянского живописца и архитектора эпохи Высокого Возрождения. Многие современники говорили о его красивой, ангелоподобной внешности. В отличие от своих великих современников, Леонардо да Винчи и Микеланджело, одиноких гениев по природе, он был приветлив и всегда окружен учениками, друзьями и поклонниками. На улицах его как князя сопровождала целая свита. По славе Рафаэль превзошел всех своих знаменитых современников. Всеобщий любимец, сам папа римский обещал ему красную шапку кардинала, не зная, как его еще отличить. По историческим описаниям Рафаэль чем-то напоминал Ивану Моцарта из «маленькой трагедии» Александра Пушкина. Он творил свои гениальные картины легко и свободно, непринужденно, можно сказать, «как Бог на душу положит», отзываясь на все впечатления земного бытия. Его ноги еще ступали по земле, а воображение уже уносилось в другую высшую область, куда не мог заглянуть взгляд простого смертного. Там Рафаэль однажды увидел грацию, сидевшую на троне. Она дала ему кисть, краски и «открыла глаза», сказала: «Иди и твори»…
Грация – это красота, и именно ей он теперь служит. Для него она ниспосланная небесная благодать, изящество, привлекательность. Она «абсолютная» и «неизъяснимая». Это еще и античная пластика, которая вновь оживает у Рафаэля и способствует возрождению великого христианского Рима. Божественное всегда должно быть прекрасным, прекрасным становится все, к чему он прикасается. Кажется, что роль придворного художника совсем не тяготит его, он человек своего времени, эпохи Великого Возрождения. Ему нет никакого дела до войны, политики и философских проблем. У него просто нет на это времени: он полностью погружен в свое рисование, краски, картоны и холсты. Для всех Рафаэль выглядит общительным человеком, которому не чуждо ничего земного. Но кто из смертных знает, что происходит в душе «божественного» Мастера? Он умер 6 апреля 1520 года в день своего рождения. Ему было всего 37 лет.
Иногда кажется, что таким гениям намеренно отпускают мало земного времени. Небеса их торопят, зовут к себе и спешат сами насладиться их ярким умом и талантом. Рассказ Ивана о титане эпохи Возрождения все больше переходил в плоскость освещения русской культуры, авторов представленных здесь копий художников-академистов: профессора исторической живописи Антона Лысенко, Федора Бруни, по эскизам которого расписывали знаменитый Исаакиевский собор и, конечно, Карла Брюллова. Последних двух, вообще часто путали в русских музеях. У них находили довольно много общего, например, рафаэлевскую s-образную схему построения композиции.
Если бы Карл Брюллов по заданию Общества поощрения художников не поехал в Ватикан копировать фреску «Афинская школа» Рафаэля, то наше отечественное искусство могло бы остаться без «Последнего дня Помпеи».
Широко известна фраза самого художника, в которой он откровенно признавался, что для «Помпеи» ему было мало таланта, нужно было пристально вглядеться в великих мастеров. Копируя сложные, многофигурные композиции Рафаэля, он находил решения практических живописных задач. «Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали…», – так писал Александр Пушкин. «Наши спутницы с первого же взгляда уловили оттенки в выражении действующих лиц этой картины благодаря копии в размере подлинника, которую пишет какой-то русский художник… Яркие краски русской копии послужили нам прекрасным комментарием, отлично поясняющим текст старинного автора», – написал об этом Мари-Анри, более известный миру под псевдонимом – Стендаль. Теперь эти русские копии были навечно вмонтированы в один из залов, где проходила выставка – Рафаэлевский.
Иван немного задержался возле копии картины Рафаэля «Положение во гроб». Здесь тоже имелась своя история. Сделал ее Иван Эггинк, больше известный любителям русской живописи своим портретом Ивана Крылова в халате. Картина «Положение во гроб» была невероятно популярна в эпоху романтизма, да и потом тоже. В 1841 году Николай Гоголь заказал художнику Ивану Шаповалову сделать с нее копию головы Спасителя. Известно, что Гоголь, родившийся в Полтавской губернии, так и не сумев привыкнуть к суровому петербургскому климату, долгое время жил в Италии и тесно общался с русской художественной колонией в Риме. Поддавшись всеобщей творческой атмосфере, царившей в городе, писатель сам взялся за кисть и принялся рисовать картины. До нашего времени не сохранилось ни одной из них. Возможно, Николай Васильевич сам не желал этого.
Иван принялся рассказывать своим слушателям необыкновенную историю о поэте Александре Пушкине. Летом 1830 года светское общество сразу двух столиц бурлило: обсуждалась помолвка и предстоящая свадьба «первого романтического поэта нашего времени на первой романтической красавице». Пушкин ожидал невесту в Петербурге с нетерпением. Однажды, гуляя по Невскому, поэт увидел в книжном магазине картину с белокурой мадонной, «как две капли воды» похожей на его невесту, Наталью Гончарову. Это была старинная копия картины Рафаэля, которую здесь выдавали за подлинник. Влюбленный поэт простаивал у картины часами и охотно купил бы ее, если бы она не стоила сорока тысяч рублей. Зато, благодаря этой картине у него появился сонет «Мадонна», посвященный Наталье Николаевне:
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель…
Это еще один пример в пользу добротно сделанных копий картин великих мастеров. У оригинала этой картины была долгая история странствований, пока ее не купил герцог Бриджуотер. С тех пор она получила название по имени владельца – «Мадонна Бриджуотерская». Многие картины Рафаэля, разбросанные теперь по всему миру, обретали так свои новые имена.
Он вспомнил слова филолога, итальяниста Руфа Хлодовского: «Живопись Рафаэля в такой же мере больше, чем только живопись, в какой поэзия Пушкина больше, чем только поэзия». В общем, в обоих случаях мы имели дело с духовной жизнью нации в ее высочайших, абсолютных проявлениях.
Заговорили и о копии знаменитой «Сикстинской мадонны». Она сейчас находилась в Третьяковской галерее. Ее все хорошо знали. Казалось бы, на этой картине было найдено необычное решение – Мадонна поднята с земли на небо, но мы не видели на картине, ни того, ни другого. Мы только видели высоту, с которой она была готова спуститься к людям, с тревогой за сына, который совершенно по-взрослому сердито глядел перед собой. У Мадонны необыкновенно нежное, как у юной девушки лицо. В этом она вся та же, слегка испуганная рафаэлевская грация. Внизу изображены святой Сикст, святая Варвара и ангелочки. Библейский сюжет кажется театральным действием в античном театре, где разыгрывались мифы Древней Греции. Живописное полотно на глазах превращалось в поэтическое сказание.
В своих письмах из Дрездена литературный критик Белинский, восхищаясь этой картиной Рафаэля, вспоминал поэзию Пушкина: «то же благородство, та же грация выражения, при той же строгости очертаний!» Сравнивая их по близости стиля, ему следовало еще добавить, что они оба – величайшее явление национальной и мировой культуры.
Не обошел своим вниманием «Сикстинскую мадонну» и Федор Михайлович Достоевский, использовавший этот образ в трех своих романах – «Преступление и наказание», «Бесы» и «Подросток».
Экскурсия закончилась, и Марья сказала Ивану, что все получилось очень славно. Только о литературе и Пушкине рассказывал много. Даже о Рафаэле Санти у него получилось меньше. Иван согласился, но заметил, что в этих залах подлинных картин Рафаэля нет. Даже в Эрмитаже их только две. Выставка состоит из прекрасных копий, сделанных русскими художниками. Вот и получается, что здесь лучше всего говорить о ренессансе в русской культуре. Одинаковых экскурсий, как и людей, не бывает. Каждый вкладывает в нее что-то свое.
К ним подошла молодая женщина-волонтер и стала делиться своими впечатлениями от поездки в Италию, посещения Рима и Ватикана. Все это теперь выглядело бесконечно далеким из-за закрытых границ. Ей почти ничего тогда не запомнилось. Вокруг италийских красот собирались огромные толпы людей, а времени для их осмотра отпускалось совсем мало. Знакомиться с творчеством Рафаэля в Академии было даже удобнее. Иван кивал ей, с чем-то соглашался, а сам ломал голову, как бы поскорее отделаться. Собеседница явно старалась обратить на себя внимание. Присутствие скромно стоявшей рядом с ним Марьи ее совершенно не смущало. Иван поспешил поблагодарить женщину за интересный рассказ и откланяться.
Залы музея погружали своих гостей в другую эпоху. Освещенные лампами старинные картины – иконы на красных, как мантия кардинала, стенах рождали мысли о вечности. Мимо них по паркету скользила странная группа тонированных белой пудрой женщин в римских античных одеждах. Они двигались медленно и синхронно, поминутно останавливаясь и создавая красивые «скульптурные композиции». По всей видимости, театральное действие представляло собой ожившие мраморные статуи. У окна сидел бородатый музыкант в накидке с капюшоном, игравший на старинной арфе. Музыка менестрелей растекалась теплыми потоками и постепенно заполняла залы расслабленным покоем, словно один большой сосуд…