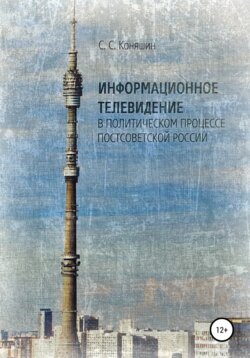Читать книгу Информационное телевидение в политическом процессе постсоветской России - Сергей Сергеевич Коняшин, Сергей Сергеевич Комаров, Сергей Сергеевич Косинов - Страница 5
ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
§ 3. Массовая коммуникация и политическое сознание в новейшей истории политической мысли
Критическая теория о СМИ
ОглавлениеКритическая теория – продукт группы немецких неомарксистов, неудовлетворённых состоянием марксистской мысли в первой половине XX века (главным образом их сильным уклоном в экономический детерминизм). Позднее эта группа получила название Франкфуртской школы, поскольку все её представители в начале 1920-х гг. работали в Институте социальных исследований во Франкфурте. Среди наиболее известных представителей Франкфуртской школы – её основатель Теодор Адорно, а также М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас и другие. Для представителей «первой волны» критической теории было характерно отношение к СМИ как к мощному, но несамостоятельному средству подавления в руках у господствующих классов.
Пожалуй, из всех представителей первого поколения Франкфуртской школы наибольшим авторитетом среди широких слоёв общественности пользовался Герберт Маркузе (1898–1979). Известность ему принесли сочинения «Эрос и цивилизация» (1955) и «Одномерный человек» (1964). Многие историки называют Г. Маркузе главным теоретиком «новых левых» – массового протестного движения, захлестнувшего Европу и США в конце 1960-х гг.
Как и прочие критические теоретики, главным злом современной цивилизации Г. Маркузе видел приверженность принципу «технологической целерациональности»: формальная рациональность не имеет ничего общего с разумом, целью общественного развития является укрепление господства, эксплуатации и принуждения. Формальная рациональность, несмотря на технологические достижения, разрушает индивида, деформирует его способности и потребности, лишает его свободы и самореализации: «Никогда прежде общество не располагало таким богатством интеллектуальных и материальных ресурсов и, соответственно, не знало господства общества над индивидом в таком объёме»91. Мир балансирует на грани полного самоуничтожения (красной нитью сквозь его работы проходит тема возможной ядерной войны). Следовательно, формальная рациональность иррациональна, если не абсурдна.
Каким образом удаётся поддерживать и воспроизводить иррациональный порядок? По мнению Г. Маркузе, это возможно с помощью колоссальной подмены понятий, искусственного сужения мыслительных горизонтов, локализации общественного недовольства и, главным образом, внедрения в сознание чуждых потребностей (то есть теми приёмами манипулирования общественным сознанием, которые активно применяются в наши дни).
Ведущую роль в этом процессе играет техника, главным образом СМИ: «Наши средства массовой информации не испытывают особых трудностей в том, чтобы выдавать частные интересы за интересы всех разумных людей. Таким образом, политические потребности общества превращаются в индивидуальные потребности и устремления, а удовлетворение последних, в свою очередь, служит развитию бизнеса и общественному благополучию»92. По схожему сценарию и с аналогичными целями в России в середине 1990-х гг. проходил процесс перераспределения информационного ресурса в руках различных группировок политической и экономической элиты93.
Развитие техники ведёт к появлению новых, весьма эффективных и даже более комфортных для индивида методов контроля над ним. Телевидение закладывает «небиологические, репрессивные, продиктованные борьбой за существование» потребности уже на уровне социализации. Предлагаемый продукт обладает внушающей и манипулирующей силой, распространяет «ложное сознание, имеющее иммунитет против собственной ложности»94. Базис в виде искусственно вложенных потребностей постоянно подкрепляется пропагандой, оперирующей понятиями «свой – враг». Языковыми и технологическими приёмами размываются границы между политикой, бизнесом и развлечениями, облегчая тем самым осуществление враждебного человеку курса правящей элиты.
В том же направлении, только с позиций психологии, статистики и теории информации, строил свои рассуждения А. Моль, придя в итоге к аналогичным выводам – в частности, о формировании под воздействием СМИ «некритического мышления». Подробнее об этом будет рассказано в следующем параграфе данной главы. Некритическое политическое сознание способствует деидеологизации и деполитизации политики. В третьей главе этот процесс будет проиллюстрирован на примере российской избирательной кампании 1999–2000 гг.
Другой способ контроля: телевидение, выступая единым фронтом с администраторами общества, может насаждать «ложную конкретность» (так Г. Маркузе называет сведение всеобщего неблагополучия к частным неприятностям).
Таким образом, массовой культуре, которую олицетворяет собой телевидение, принадлежит главная роль в формировании «одномерного человека», т. е. индивида, не способного относиться к данной реальности критически и неспособного разглядеть альтернатив этой реальности. Абстрактную неудовлетворённость или осознанное недовольство (проявления иррациональной действительности) массовая культура успешно гармонизирует с видимостью рационального благополучия.
Мнение Г. Маркузе по поводу роли СМИ в создании, поддержании и воспроизводстве репрессивной общественной организации хорошо демонстрирует простой пример: «Простое отсутствие всех рекламных и всех независимых средств информации и развлечения погрузило бы человека в болезненный вакуум, лишающий его возможности удивляться и думать, узнавать себя (или, скорее, отрицательное в себе) и своё общество. Лишённый своих ложных отцов, вождей, друзей и представителей, он должен был бы учить заново эту азбуку. Но слова и предложения, которые он сможет построить, могут получиться совершенно иными, как и его устремления и страхи»95.
Другими словами, для освобождения и переоценки потребностей необходимо ущемление нужд и форм удовлетворения потребностей, организующих жизнь в этом обществе. Поскольку вследствие манипуляции на поддержку общества эксплуатации мобилизованы ранее несовместимые противоположности, в том числе и угнетаемые слои, единственную ставку Г. Маркузе делает на бунт аутсайдеров.
Таким образом, мы видим, что по сравнению с классическим марксизмом неомарксисты изменили взгляды на соотношение ролей базиса и надстройки. Вспомним, что К. Маркс называл культуру надстройкой над экономическим базисом. Сторонники критической теории не отвергали этот тезис, считая, что культурная индустрия, производящая посредством СМИ массовую культуру, это бюрократизированная, искусственная структура, а отнюдь не реальный феномен. Тем не менее за ней признали возможность обратного влияния на экономическую основу общества, тем самым признавая за культурой (включая, разумеется, средства массовой информации) и некоторое самостоятельное, независимое значение96.
То внимание, которое члены Франкфуртской школы уделяли культуре, не случайно. В целом критическое понимание сути и смысла культурной индустрии в индустриальном обществе было похоже на выводы Г. Маркузе:
надстройка носит фальшивый характер, поскольку существует заранее подготовленная совокупность идей, которую затем доносят до масс с помощью СМИ;
культурная индустрия осуществляет умиротворение, оглупление реципиентов и в конечном итоге репрессивное воздействие на них.
Большое внимание работе телевидения уделял Дуглас Келлнер, другой представитель критической теории. Он связал телевидение с корпоративным капитализмом и соответствующей политической системой. Он не рассматривал телевидение как монополию или единую, хорошо организованную корпорацию. Напротив, в его представлении телевидение – высоко конфликтное средство массовой информации, в котором пересекаются конкурирующие экономические, политические и культурные интересы. Это воззрение противоречило положению критической теории о полной управляемости капиталистического мира. Тем не менее для Д. Келлнера телевидение – это угроза демократии, индивидуальности и свободе, и он предлагает несколько способов борьбы с этим злом. В частности, он считает, что «необходимо добиваться большей демократической открытости, большего политического участия со стороны граждан, более широкого разнообразия телевизионных компаний и программ»97.
91
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. M., 2002, с. 257.
92
Маркузе Г. Цит. пр., с. 255.
93
Подробнее см. гл. III.
94
Маркузе Г. Цит. пр., с. 275.
95
Маркузе Г. Цит. пр., с. 505.
96
Последовательное углубление внимания к месту и роли СМИ в общественном устройстве, а также постепенное выведение их на всё более важное место – одна из отличительных особенностей динамики философской и политической мысли второй половины XX века. Отражая объективные социальные процессы, эта особенность объясняет причины политической институционализации СМИ, рассмотренные в § 1.
97
Алексеева Т. А. Современные политические теории. М., 2000, с. 289.