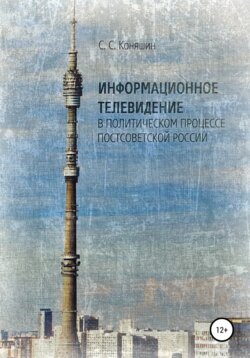Читать книгу Информационное телевидение в политическом процессе постсоветской России - Сергей Сергеевич Коняшин, Сергей Сергеевич Комаров, Сергей Сергеевич Косинов - Страница 8
ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
§ 3. Массовая коммуникация и политическое сознание в новейшей истории политической мысли
Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса
ОглавлениеЮрген Хабермас – представитель второго поколения Франкфуртской школы. С родоначальниками критической философии его роднит резкое неприятие общества, закрепляющего социальную несвободу. Второй объединяющий момент – углублённый интерес к культурной надстройке. В своих работах Ю. Хабермас окончательно выводит её на первый план и разрабатывает собственную систему социальных инициатив, имеющих целью подъём самосознания масс и в конечном итоге освобождение человека. По его мнению, критическое знание – это поиск альтернатив существующему миропорядку. Он уверен, что такая альтернатива есть, и заключается она в коммуникативном действии: «Повседневная коммуникативная практика позволяет достичь взаимопонимания с учётом притязаний на значимость – и это единственная альтернатива более или менее насильственному воздействию людей друг на друга»106.
В общих чертах суть коммуникативного действия заключается в следующем. Оно ориентировано не столько на цель, сколько на взаимопонимание. В процессе коммуникативного действия акторы внутренне согласовывают между собой планы своих действий и преследуют свои цели только при условии согласия относительно ситуации и ожидаемых последствий. Процессы взаимопонимания «нацелены на достижение согласия, которое зависит от рационально мотивированного одобрения содержания того или иного высказывания»107, и, в свою очередь, не могут быть сведены к телеологическому действию.
Необходимость консенсуса особенно настоятельно подчёркивается Ю. Хабермасом, при этом наиболее важное значение имеет убедительность аргументов: «В коммуникативном действии один предлагает другому рациональные мотивы присоединиться к нему в силу скрепляющего иллокутивного эффекта, которым обладает приглашение к речевому акту»108.
В понимании Ю. Хабермаса информация, претендующая на значимость (то есть истинная, правильная и правдивая), лишается разрушительного потенциала и превращается в мощный созидательный ресурс. СМИ в случае трансляции истинной информации начинают полностью соответствовать своему названию и становятся важнейшим средством коммуникативного действия – как между социальными группами, так и между обществом и государственными структурами. Хотя статус государства и руководства вообще должен будет претерпеть значительный пересмотр: власть как процесс доминирования уйдёт в прошлое. Теоретически возможен вариант замены аппарата власти средствами массовой информации и коммуникации – с приданием последним институционализированной общественно организующей функции.
Проблема в том, что политическая элита, по-своему понимая важность коммуникативной среды, подчиняет её политике закрепощения и консервации существующего порядка. Например, путём развития массовой культуры. Суть потенциальных средств освобождения оказывается извращённой: «Коммуникационные структуры общественности, находящиеся во власти средств массовой информации и поглощённой ими, настолько ориентированы на пассивное, развлекательное и приватизированное использование информации, что когерентные, т. е. целостные образцы толкования (хотя бы среднего радиуса действия) просто не могут больше сформироваться. Фрагментаризированное повседневное сознание располагающих досугом потребителей препятствует образованию идеологии классического типа, но само становится господствующей формой идеологии»109.
Надо отметить, что в уже упоминавшийся 11-летний период независимости российской прессы, описанный Е. Яковлевым, дискуссионный, полемический характер повседневной работы СМИ содержал в себе возможность коммуникативного действия в понимании Ю. Хабермаса – как основы для саморазвития общественной организации. Тем печальнее констатировать, что уже в 1995–1996 гг. высшее руководство российского центрального телевидения сделало добровольный сознательный выбор в пользу превращения их сферы деятельности в инструмент поддержания «бюрократической рациональности»110.
Нельзя не привести ещё одно высказывание Ю. Хабермаса, поскольку оно непосредственным образом затрагивает один из наиболее обсуждаемых вопросов в сфере СМИ. «Круговороты денег и власти в экономике и общественном управлении должны быть ограничены, сдержаны, и в то же время отделены от коммуникативно структурированных сфер действий в частной жизни и свободной общественности: иначе они будут ещё больше перекрывать жизненный мир своими вносящими диссонанс формами экономической и бюрократической рациональности. Политическая коммуникация, берущая начало в понимающих ресурсах жизненного мира, а не созданная партиями, вовлечёнными в государственные дела, должна защищать границы жизненного мира и его императивы, т. е. упорно добиваться выражения требований, ориентированных на потребительную стоимость»111. По сути дела, этот отрывок не что иное, как философское и политико-экономическое обоснование идеи общественных СМИ, которые на Западе получили воплощение в виде общественного телевидения.
Общественное телевидение – формальная альтернатива коммерческому и государственному телевидению. А значит, оно в равной степени свободно от идеологического контроля со стороны правящей элиты и от власти капитала, в том числе рекламного бизнеса.
В разных государствах существование общественного телевидения поддерживается из разных источников. В США, например, это добровольные пожертвования физических лиц и крупных фондов (Форда, Карнеги и др.). Такого рода благотворительность всячески поощряется и государством, и законом, и фискальными службами. В Европе чаще всего общественное телевидение поддерживается абонентной платой владельцев телевизоров.
В ряде стран общественное телевидение занимает господствующие позиции. В Великобритании, например, общественная «Би-Би-Си» (по крайней мере, что касается устава и финансирования корпорации), в Японии – «Эн-Эйч-Кей», в ФРГ – общественно-правовой канал «АРД» и т. д.112
Что касается российской действительности, то достаточно сравнить концепцию Ю. Хабермаса с историей создания «Общественного Российского телевидения» (сейчас – ОАО «Первый канал»113), называвшегося общественным лишь формально.
106
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000, с. 33.
107
Хабермас Ю. Цит. пр., с. 200.
108
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995, с. 91.
109
Там же.
110
Речь идёт об изменении информационной политики оппозиционных телеканалов (в первую очередь НТВ) в преддверии президентских выборов 1996 г. и включении их в политическую борьбу на стороне действующего президента Б. Н. Ельцина (см. гл. III).
111
Хабермас Ю. Цит. пр., с. 95.
112
Борецкий Р. Телевидение на перепутье. М., Институт истории и социальных проблем телевидения, 1998, с. 83.
113
29 июля 2002 г. на собрании акционеров ОРТ было принято решение о ребрендинге. 2 сентября 2002 г. телекомпания изменила название на ОАО «Первый канал».