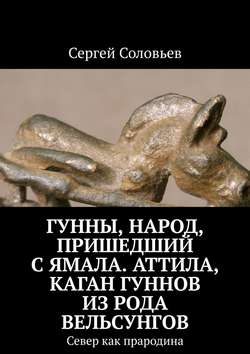Читать книгу Гунны, Народ, пришедший с Ямала. Аттила, каган гуннов из рода Вельсунгов. Север как прародина - Сергей Соловьев - Страница 17
Гиганты (ганты) России
Возникновение и миграции индоарийских племен
Абашевская культура
ОглавлениеК середине II тыс. до н. э. в лесостепной зопе Восточной Европы сложилась абашевская культурно-историческая общность преимущественно скотоводческого населения, памятники которой сейчас известны на территории от левобережья Днепра на западе (бассейны Десны и Сейма) до р. Тобол – на востоке, а хронологические пределы определяются второй – третьей четвертью II тыс. до н. э. исследование абашевских древностей насчитывает более 100 лет (Пряхин, 1981). Сама же абашевская культура впервые была выделена только после раскопок проф. В. Ф. Смолиным в 1925 г. Абашевского могильника на территории Чувашии (Смолин, 1928; Smoline, 1927). Интенсивные исследования абашевских могильников на территории Чувашии и Марийской АССР в послевоенные десятилетия (Мерперт, 1961; Халиков, Лебединская, Герасимова, 1966а) постепенно очертили представление об абашевской культуре в Среднем Поволжье и определили осмысление всех абашевских древностей (Евтюхова, 1964а, б; Третьяков П. Н., 1961; Халиков, 1966).
Люди Абашевской культуры преимущественно занимаются скотоводческим хозяйством с подчиненным значением земледелия. В составе стада преобладал крупный рогатый скот при значительной роли мелкого рогатого скота. Последнее особенно свойственно для раннего этапа развития этого населения и для тех групп абашевцев, которые продолжали сохранять известную подвижность и в более позднее время. Отдельные группы в позднеабашевское время обнаруживают тенденцию к развитию оседлого скотоводческо-земледельческого хозяйства (появление значительных долговременных поселков, наличие костей свиньи на этих поселениях, увеличение числа свидетельств занятия земледелием и т. д.) – особенно показательна целая группа позднеабашевских поселков в нижнем течении р. Воронеж. В составе стада этого населения есть и лошади. В более северных же районах, на территории современного Марийско-Чувашского Поволжья, абашевское население было более подвижным и, очевидно, в большей степени занималось пастушеским скотоводством. Но надо сказать, что в этом регоне, да и сейчас, люди всегда занимались преимущественно молочным скотоводством, что не делало их кочевниками. В современной Финляндии, сельское хозяйство так же преимущественно занято молочным скотоводством, что не делает их кочевниками. Уровень развития скотоводства обусловил широкие возможности для использования абашевцами скота в транспортных и военных целях. Последнее в свою очередь не только способствовало распространению их на значительные территории, но и явилось одним из условий складывания огромной культурно-исторической общности. Здесь надо понимать специфику разведения коров и их нужды-обилие воды и травы, и кроме того, корова обожает сидеть в воде летом, спасаясь оот оводов. Именно у абашевцев, особенно на позднем этапе их развития, получили распространение дисковидные псалии с шипами, наиболее впечатляющими являются два сделанных из слоновой кости орнаментированных псалия из основного погребения кургана 2 Старо-Юрьевского могильника в Верхнем Подонье. Находки такого рода псалиев фиксируют первое появление в евразийской степи и лесостепи колесничного транспорта (Пряхин, 1972, с. 238; 1976 а, с. 124; Чередниченко, 1976, с.147 – 148; Смирнов, Кузьмина, 1977, с. 42 – 45,) Сам же факт использования дисковидных псалий в упряжи колесниц нашел неоспоримое подтверждение при раскопках Синташтинского могильника в Зауралье, в погребениях которого удалось проследить и сами остатки такого рода колесниц (Генинг, 1977, с. 59, 66).
Это население первым в достаточно масштабном объеме начало освоение уральских месторождений меди, особенно зауральских месторождений меди Таш-Казган и Никольское с использованием медистых песчаников Приуралья, как, впрочем, и Поволжья (Сальников, 1962; Черных, 1964; 1970, с. 27 – 28, 108—111 и др.). Абашевские мастера выработали свою форму орудий труда, предметов вооружения и украшений. У абашевцев известны имевшие разное функциональное назначение пластинчатые орудия труда (ножи, серпы, скобели), свои типы вислообушных топоров: камский, по Б. Г. Тихонову (Тихонов, 1960, с. 59—62), узковислообушный, по Е. Н. Черных (Черных, 1970, с. 58, рис. 50), абашевский, по С. А. Кореневскому (Кореневский, 1973, с. 44—47, рис. 4), плоских топоров-тесел, по Б. Г. Тихонову (Тихонов, 1960, с. 66), тип удлиненных топоров-тесел с расширенной пяткой, по Е. Н. Черных (Черных, 1970, с. 62), кованых наконечников копий с разомкнутой втулкой, несколько разновидностей ножей и кинжалов и т. д. Абашевские мастера изготовляли лепестковидные бляшки-розетки, браслеты, имеющие несомкнутые, часто приостренные концы, маленькие желобчатые подвески и т. д. Для абашевцев характерно богатое украшение одежды, особенно головного убора, мелкими нашивными полукруглыми бляшками, проволочными пронизками и другими украшениями.
Сами масштабы развития абашевской металлургии определяются и находками серий абашевского металла, рассматриваемых в литературе под понятием «клады», которые территориально тяготеют к месторождениям на Урале и в Зауралье (Красноярский, Верхне-Кизыльский, у Долгой Горы и др.). Находки их не переходят на правый берег Волги. Причем некоторые из «кладов» вряд ли оставлены непосредственно абашевским населением. Отдельные из них (Галичский, Коршуновский, Морозовский) могут свидетельствовать не столько о прямом расселении абашевцев в лесных районах Поволжья, сколько о распространении абашевского металла на более северные территории. Это население сооружало вначале большие по площади двухкамерные или многокамерные, имеющие двухскатную кровлю, слабо углубленные в материк жилища, а затем большие по площади, также слабо углубленные в материк, но уже однокамерные постройки с примыкающей тамбурной частью.
Для абашевского населения характерен подкурганный обряд захоронения с возведением уплощенных насыпей. Отмечается наличие интервала между временем совершения захоронения и возведением насыпи. Особенностью погребального обряда этого населения было возведение кольцевых (реже прямоугольных) внемогильных сооружений, ограничивающих значительную площадь вокруг одной или нескольких могил. Иногда отмечается наличие самостоятельных прямоугольных столбовых конструкций вокруг отдельных захоронений. Для погребального обряда абашевского населения характерен в разной степени проявляющийся культ огня (сожжение наземных конструкций, ссыпание горящего угля в могилу и т. п.) и жертвоприношения животных (положение частей или шкуры с головой и ногами). Могильные ямы чаще всего вытянуто-прямоугольные, иногда имеют деревянное или каменное оформление. Умершие клались на спину с вытянутыми или приподнятыми ногами. Чаще встречается восточная и юго-восточная ориентировка умерших. Отмечено наличие расчлененных, частичных, т. е. повторных захоронений. Наконец, полное отсутствие костяков в ряде могильных ям свидетельствует о кенотафах, что подтверждает наличие у абашевцев каких-то сложных, пока непонятных погребальных традиций, что сближает их так же с эллинской традицией. Обычны одиночные захоронения. Но в окраинных районах, особенно в зонах контактов с инокультурными племенами, нередки коллективные погребения типа братских могил: Пепкинский и Старо-Ардатовский курганы в Среднем Поволжье, I Юкалекулевский курган в Башкирии. Для курганов наиболее характерны не свойственные другим абашевским культурам каменные внемогильные конструкции. Только здесь камень довольно широко применялся и в оформлении могильных ям. В ряде случаев отмечаются мощные костры, горевшие над могильными ямами уже после совершения захоронения. Чаще, чем на других территориях, фиксируется наличие частичных и повторных захоронений. Умершие клались на спину вытянуто или с приподнятыми ногами. Устойчивости в ориентировке умерших нет.
Среди форм керамики более всего колоколовидных чаш и меньше колоколовидных горшков. Колоколовидные сосуды здесь чаще имеют значительно меньшую высоту венчика. На сосудах появляются изображения меандра и свастики. Посуда так же черненая или молоченая, традиционная для индоевропейцев.
Сосуд из ГИМ, Абашевская культура. Меандр.
Височные дольчатые кольца
Отличия проявляются даже в маленьких острореберных сосудиках – особенно показательно наличие прямого падения в районе шейки с внутренней стороны. В украшении сосудов намного чаще отмечается меандровый и лопастной узоры, традиция украшения их нижней части прочерченной вертикальной елочкой и т. д. На уральской территории распространены округлые в сечении браслеты с несомкнутыми притупленными концами, металлические накладки, пластинчатые бляшки. Браслеты спиралевидные, и так же со времен катакомбной культуры употребляются височные дольчатые кольца.
Только здесь известны многовитковые маленькие желобчатые подвески и металлические бусы. Значителен набор металлических орудий труда и предметов вооружения. Намечающимся решением вопроса о происхождении и дальнейшей судьбе абашевского населения обусловлен и подход к выяснению этноса этого населения. Отрицание генетической связи с абашевцами предшествующих по времени культур лесного Поволжья, как и отсутствие прямого наследования абашевских черт финно-угорскими культурами раннего железного века Поволжья, является серьезным аргументом в пользу отрицания и финно-угорского этноса абашевцев. В то же время определение их этноса как индоиранского становится все более очевидным (впервые такая точка зрения была высказана А. X. Халиковым). Данная трактовка этноса абашевцев получает дополнительную аргументацию в связи с новыми доводами в пользу того, что абашевцы своими историческими корнями, развитием да и дальнейшей судьбой связаны с миром массивов населения древнеямной, срубной и алакульской культурно -исторических общностей, которые сейчас все более определенно рассматривают в прямой связи с проблемой ранней истории индоевропейцев, а затем и их группой индоиранских ответвлений.