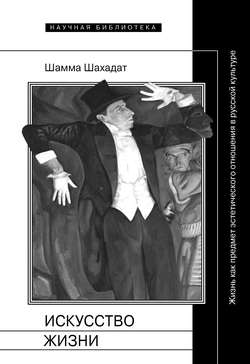Читать книгу Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков - Шамма Шахадат - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Художники своей жизни. Модели и образцы[6]
1. Теоретическое введение
1.1. Жизнетворчество, конструирование личности, поэтика поведения (вопросы теории)
ОглавлениеСогласно Вильгельму Шмиду (Schmid, 1998, 73), тема жизни как искусства привлекает наибольший интерес в эпоху романтизма, когда Шлейермахер пропагандирует «искусство жить» в своих проповедях, а Фридрих Шлегель формулирует понятие «учение об искусстве жизни» и развивает его в своем романе «Люцинда». Первоисточником этого концепта является, однако, античная философия, видевшая в овладении искусством жизни свою главную задачу (Там же, 72).
Как бы сильно ни различались между собой школы киников, эпикурейцев и стоиков, их учения имеют немало общего, поскольку они культивируют идеалы дружбы и преодоления страха смерти, выдвигают требование аскетического обуздания плоти, самообладания (автаркии) и счастья (эвдемонии), заботы о своем благе и свободе духа (Там же). Киники делают акцент на самообладании, на автаркии, и, проповедуя аскетизм, добиваются самодостаточности, обеспечивающей независимость от внешних сил. Эпикурейцы стремятся к наслаждению, их любимый символ «сад наслаждений», причем утехи мыслятся как подконтрольные разуму и исполненные смысла; важна «избирательность в удовольствиях жизни» («не всякое удовольствие мы приемлем») в сочетании с предельным ограничением количества желаний, так как чем меньше желаний, тем большее наслаждение можно извлечь из каждого, и мудрость состоит в том, чтобы научиться извлекать максимум удовольствия из малейших поводов к нему (Schmid, 1998а, 31). Подлинных вершин в искусстве жить достигают Сенека и стоики с их принципом самообладания: «Стань хозяином самого себя», – гласит максима Сенеки, требующего от человека способности к самосозерцанию и внутреннего противостояния враждебным силам окружающей реальности.
Искусство жизни зарождается в том промежуточном пространстве, где жизнь превращается в текст, а текст предназначается для того, чтобы его проживать. В этом промежутке, который не есть ни текст, ни жизнь и в то же время есть и то и другое вместе, зарождаются гибридные жанры, которые также, не являясь ни исключительно телом, ни исключительно словом, соединяют в себе то и другое. Каждый художник своей жизни, рассматривающий свое тело как произведение искусства, одновременно является и творцом, и творением. Сознательное усилие преобразует «тело» как нечто материальное и природное в семиотическую систему, приобретающую свойство знака благодаря одежде, мимике, жестикуляции, поведению. Подлинную семиотическую активность такое тело-знак приобретает, однако, лишь тогда, когда вступает в акт коммуникации[9], причем в качестве партнера может выступать не только другое лицо или общество, но и самое Я, обладающее способностью постоянного самонаблюдения и тем самым самоутверждения в собственном художественном значении – будь то посредством разглядывания себя в зеркале, будь то посредством интроспекции и текстуализации своего Я в форме дневника или романа с ключом. При этом нередко случается так, что материальное тело как бы вторгается в семиотизированное тело-знак, которое отнюдь не защищено от выпадов со стороны материального мира, обнаруживающего свое присутствие в форме неконтролируемых жестов, скандалов или эпилептических припадков[10].
Являясь литературно-социологическим гибридом, искусство жизни представляет собой тему, словно предназначенную для того, чтобы лишить литературный текст того привилегированного положения, которое он занимает в теории культуры, и подчеркнуть значение культурологической перспективы. Текст и жизненное поведение должны рассматриваться как два кода или два способа репрезентации[11] (представители русской формальной школы пользовались в этом смысле понятием «ряд») среди многих других. Художник своей жизни производит непрерывное медиальное преобразование, перевод и трансформацию своего Я в сферу знаков, телесных или текстуальных. Культурологическая перспектива важна здесь потому, что предполагает взаимосвязь между достижениями так называемой «высокой культуры» и «всей практикой жизни» (Раймонд Уильямс)[12]. Культура представляет собой контекст и область производства власти, требующие интердисциплинарного подхода. Подчеркнутый интерес культурологии ко всему маргинальному, например к анекдоту, «являющему собой парадоксально непривычную связь различных дискурсов в форме целостного интегрального текста» (Baßler, 2002, 306), настолько очевиден, что вызывает даже упрек в «игнорировании всех канонических текстов» (Kittler, 2000, 11)[13]. Так и исследования в области искусства жизни не признают никакой иерархии культурных явлений и направлены на поэтику культуры и быта.
Так называемый культурологический подход в современном литературоведении отчасти предвосхищен русским формализмом и семиотикой культуры, которые, хотя и не были достаточно известны на Западе, двигались в том же направлении, что и западная наука. Свидетельство этого – внимание формалистов к литературному быту, к биографической и литературной личности писателя (например, Томашевский, 2000) и обращение Ю.М. Лотмана к поэтике поведения (Лотман, 1992, 1992a, 1992b, 1992c). Таковы, далее, работы Л.Я. Гинзбург и Ирины Паперно, тематизирующие литературную личность и принципы ее конструирования в эпоху романтизма и реализма (Гинзбург, 1971; Паперно, 1996)[14]. Примыкают к ним и размышления Александра Эткинда о взаимосвязи «идей, людей и эпох» (Эткинд, 1994, 13)[15].
Все это находится так или иначе в русле исследований, тон которым задает в международном масштабе англо-американская школа «нового историзма» с ее поэтикой культуры, представленной прежде всего работами Стивена Гринблатта[16] по английскому Возрождению[17]. Сами представители школы «нового историзма» видят истоки своего направления в теории интертекстуальности (Montrose, 1996, 63) и в дискурс-анализе Мишеля Фуко (Baßler, 1996, 14 – 17). По существу, новый историзм разрабатывает ту же идею, которая уже намечалась у формалистов: идею соотнесенности поэтики той или иной эпохи с внелитературными рядами, также приобретающими статус поэтики (поэтики поведения)[18].
Но в этом общем дискурсивном пространстве, где пересекаются эстетика и социология, где поэтика неотделима от политики, русские теоретики больше, чем англо-американские, сосредоточены на проблеме личности, ее самоутверждения в самых разнообразных контекстах и формах репрезентации[19]. Эта личность, как уже говорилось выше, расколота на две части – Я и тело-знак, которое этим Я украшается, внедряется в акт общения и подвергается наблюдению. Слова Рембо, сделавшиеся сегодня общим местом – «Je est un autre», – формулируют важнейшее условие, в котором нуждается художник своей жизни:
Я начинающего поэта являет собой субъект, который лишь сам и делает себя поэтом, именно благодаря сознательному акту самополагания. Это становится возможным лишь потому, что Рембо, очевидно, со всей ясностью сознавал, что он не тождествен самому себе или что этого тождества может не быть
(Цвейте, 2000, 28)[20].
Если дело обстоит так, как полагает Арним Цвейте в отношении Рембо, если предпосылкой рождения поэта является утрата идентичности, сознание ее отсутствия, то всякий поэт должен быть и художником жизни; искусство и искусство жить связаны между собой неразрывно, и поэт, сочиняющий стихи, сочиняет тем самым и самого себя, живет и ведет себя в жизни именно так, как должен жить и вести себя поэт.
Предметом литературоведческих исследований поведение поэта становится с тех пор, как формалисты начинают заниматься проблемой литературного быта[21], включая в это понятие и такие «литературные факты», как «биографическая личность» и «литературная личность». Тем самым в поле изучения впервые вводится личность (persona) автора, его эстетически организованная, то есть подвергнутая деформации, биография[22]. В процессе рецепции, отмечает Ханзен-Леве (1996, 416), реальная биография деформируется, претерпевает двойную трансформацию: биографическая личность реального автора превращается сначала в личность литературную, в образ поэта, в маску, имманентную литературному произведению, а затем, в ходе дальнейшей трансформации, в личность литературно-бытовую, трансцендентную по отношению к произведению[23]. Тематизируя разрыв между образом поэта и его исторической личностью, формалисты стремились раскрыть приемы литературной мифологизации, создания маски (Hansen-Löve, 1996, 417).
Проблема несоответствия между фигурой реально существующего автора и образом поэта получила дальнейшую разработку в трудах ученицы Тынянова Лидии Гинзбург и основателя русской семиотики культуры Юрия Лотмана. Их усилия были направлены на выявление принципов поэтики поведения и конструирования личности, которая формируется именно в зоне разрыва, на границе между эмпирическим человеком и литературным персонажем[24]. Но, решая одну и ту же задачу – выявления и описания связи «текст – жизнь», – Лотман и Гинзбург расставляют акценты по-разному. Лотман исходит из понятия «театральности», принимая за исходную точку автора, который живет под маской своего героя. В отличие от этого, Гинзбург продолжает разрабатывать модель формалистов, внося в нее психологическое измерение, благодаря которому в составе личности наряду со статическим компонентом становится видимым и компонент динамический (Гинзбург ссылается при этом на Уильяма Джеймса и К.Г. Юнга), который формируется по законам «эпохального характера» и определяет человеческое Я в его исторической обусловленности[25].
Исходный тезис Лотмана – обусловленность форм бытового поведения воздействием литературных текстов (1992, 249) – получает затем у него более дифференцированную трактовку в связи с исторической эпохой: в эпоху классицизма, например, искусство и жизнь максимально разведены, и граница, их разделяющая, находится под строгим контролем. Напротив, в эпоху романтизма искусство рассматривается как модель и программа жизненного поведения; граница между ними становится прозрачной. В третьем же варианте, характерном для реализма, активным, моделирующим элементом становится сама жизнь; это она дает образцы, отражаемые затем искусством. Если в культуре романтизма тон задает искусство, то реализм идет от жизни (1992а, 269, 271 и далее)[26]. Как уже отмечалось, центральное значение Лотман придает понятию театрализации, раскрывая его содержание на примере восемнадцатого столетия, когда бурное вторжение западной культуры повлекло за собой появление феномена маски и ролевой игры. Платье иностранного покроя воспринимается как маскарадное; новые, насаждаемые Петром I нормы поведения в свете – как театральная игра. Усваивая иностранную, импортированную из Западной Европы манеру поведения, русский дворянин вырабатывал тем самым и двойственное отношение к самому себе (1992, 269).
Поэтика поведения, сложившаяся в России XVIII века, описана у Лотмана с широким использованием театральной метафорики: пространство повседневной жизни люди воспринимали как сцену, свои слова и поступки – как роль, жизнь – как спектакль (258, 263)[27]. В качестве своего рода театральных амплуа Лотман указывает на роли «богатыря», «острослова» или «гаера». Источником поведенческих образцов выступает также античная мифология. Так, Суворов ориентировался на Плутарха, прежде всего на его жизнеописание Цезаря, и Плутарх – как автор образцовых биографических сочинений – становится для Суворова наставником в искусстве жить[28]. От романтика, который также театрализовал свою жизнь, хотя и с опорой на другие образцы[29], по мысли Лотмана, человек эпохи классицизма отличается способностью выходить из своей роли, делать своего рода антракты, во время которых он снимал маску. Романтик же играет свою роль непрерывно, отчего граница между ролью и индивидом совершенно исчезает. Но во всех случаях, рассмотренных Лотманом, сохраняется правило, согласно которому жесты, одежда и поступки получают семиотическую нагрузку.
Обращаясь, подобно Лотману, к эпохальным вариантам отношения между искусством и жизнью, Лидия Гинзбург сосредоточивает внимание на переходной эпохе 1830 – 1840-х годов, когда романтизм сменяется реализмом. В такие моменты, полагает Гинзбург, смена эпохальных типов личности наблюдается с наибольшей отчетливостью. В отличие от Лотмана, Гинзбург интерпретирует аспект театральности не как универсальное средство эстетизации поведения и, соответственно, общий признак «сконструированной личности», но как признак дифференциальный, маркирующий эпохальные различия. Театральность Гинзбург считает свойством именно романтической самоинсценировки личности[30], при которой роль и личность разделены известной дистанцией и творить свою жизнь как произведение искусства – значит исполнять определенную роль. Реалист же конструирует, по мысли Гинзбург, свою личность на основе принципиального совпадения внешнего и внутреннего человека; это означает, что Я формируется в этом случае ролью. Если романтик инсценирует свою жизнь как театральное представление, то реалист стремится к воплощению в себе нового человека[31].
Творческую работу над собственной биографией Гинзбург показывает на примерах Бакунина, Станкевича и Белинского. Литературе отводилась в этом процессе центральная роль; именно она была призвана создать проект новой личности, а сценой, на которой эта личность заявляла о своем существовании, служили литературные и философские кружки 1830 – 1840-х годов (например, кружок Петрашевского или Станкевича). Реалистический проект нового человека предполагал, как показывает Гинзбург, столь искреннюю веру в его аутентичность, что мир внутренний как бы овнешнялся, что и приводило к исчезновению границы между индивидом и его ролью. Отношения между текстом и жизнью могли при этом выстраиваться двояким образом: либо литературный персонаж создавался по модели реального лица (например, Бакунин служил прототипом для художественных образов в романах Тургенева и Достоевского), либо реальный человек выстраивал свою личность (persona) по литературному образцу (Гинзбург, 1971, 45)[32].
Тип эпохальной личности реалиста, намеченный в работах Гинзбург, получает дальнейшую разработку у Ирины Паперно, которая вводит понятие «семиотика поведения» и раскрывает его на примере личности Чернышевского и людей поколения 1860-х годов (Паперно, 1996).
Анализ эпохальных типов личности, проведенный Лидией Гинзбург, выдвинутая ею оппозиция между романтическим (театральным) и реалистическим (антитеатральным) эпохальными типами лег в основание той модели жизнетворчества, которую мы пытаемся выстроить в настоящей работе. Пользуясь альтернативными понятиями театрального и антитеатрального, или аутентичного[33], искусства жизни, мы видим свою задачу в том, чтобы, не ограничивая тему жизнетворчества теми или иными эпохальными вариантами ее решения, выявить те дискурсы, которые характеризуются установкой на преображение, созидание и оправдание личностью ее жизни при помощи искусства. Искусство жизни – здесь я опираюсь на положения, содержащиеся в изданном Паперно и Гроссманом сборнике «Creating Life» (1994), – является отнюдь не специфической особенностью того или иного времени, но представляет собой константу культурного развития, принимающую различные исторические формы, максимального выражения достигающую в эпоху fin de siècle и в первые десятилетия ХХ века. Именно в период символизма и авангардизма с их тенденцией к автометаописанию искусство жизни впервые выступает как особая форма эстетического освоения действительности.
Если в хронологическом плане центральным событием в истории искусства жизни является эпоха символизма, то в плане типологическом таким центром следует считать русскую культуру в целом, ибо именно Россия явилась тем культурным пространством, в котором действительность – история и человек – подвергаются наиболее интенсивной эстетизации и принимают характер художественного текста. Показательно в этом отношении высказывание Владимира Одоевского, уже в 1830-е годы противопоставившего западное и русское отношение к историческим фактам:
Везде поэтическому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у нас, напротив, поэтическое проницание предупредило реальную разработку ‹…›
(Одоевский, 1975, 182)[34].
Исупов, изучавший проблему эстетизации русской истории, исходит из понятия «эстетика поступка», которое подчеркивает равноценность высказывания и действия (Исупов, 1992, 7)[35]. Как показывает Исупов, эстетика поступка как топос русской культуры привлекала повышенное внимание русских философов и писателей во все времена, но в особенности на рубеже веков; после Герцена и Достоевского она получила дальнейшее развитие в философии космизма, в философии личности (в лице Сергея Булгакова и Льва Карсавина), в софиологии (Там же, 11 и далее).
В отличие от русской культуры, исходящей в своем самоописании из модели пространственной, на Западе принцип эстетизации рассматривается, как правило, в темпоральном аспекте, в связи с пониманием современной культуры как самоинсценировки (например, Fisher-Lichte, 1998, 88). Если в русской культуре эстетизация есть средство дереализации реальности и транспозиции вещей в знаки[36], от реальности дистанцированные[37], то западное представление о социокультуре как инсценировке формировалось в ходе постмодернистских «дебатов о статусе и понятии действительности» (Там же, 89)[38]. Однако в эпоху постмодерна субъект инсценировки – субъект, объявленный умершим и самому себе недоступным, – принципиально отличается от того, который выходит на сцену в период символизма: постмодернист нуждается в том, чтобы расставить знаки и оставить след; символист же чувствует себя еретиком, который либо узурпирует божественную власть (декадентство), либо выступает как ее носитель и активный медиум (символизм)[39].
Исследования формалистов по проблеме литературной личности, продолжающие их работы Лотмана, Гинзбург и Паперно, с их вниманием к поэтике и семиотике поведения и моделированию личности, а также принципы школы «нового историзма», представленные в работах Стивена Гринблатта, – таковы главные компоненты дискурсивного поля, в котором концепт жизни как искусства, вопросы о взаимодействии искусства и жизни, биографического факта и художественного вымысла, текста и тела приобретают научный интерес. Именно они находятся в центре нашего исследования. Задача заключается в том, чтобы точнее описать взаимодействие жизни и текста как константных величин культуры и обосновать трехуровневую модель, согласно которой творчество жизни опирается на принцип либо театрализации, либо аутентичности, либо теургии. Жизнетворчество в трех его формах – театральной, аутентичной и теургической – представляет собой, по нашему мнению, феномен трансисторического характера, в различные исторические эпохи предстающего в многообразных вариантах, сохраняя, однако, свою природу, свою связь с театром или с ритуалом. Так, приведенные выше примеры – Оскар Уайльд и «соблазнитель» Кьеркегора – относятся к парадигме театрального типа, то есть моделью эстетического преображения жизни служат в этом случае театр и ролевая игра, предполагающая дистанцию между Я и ролью и концепцию жизни как произведения искусства; подобные примеры дает преимущественно эпоха декаданса (Брюсов) и постсимволистского авангардизма (Маяковский, Есенин, Хармс). Вторая и третья парадигмы жизнетворческого поведения – аутентичная (антитеатральная) и теургическая – принципиально отвергают ролевую игру и диаметрально ей противоположны. Художник аутентичного типа, хотя и отталкивается от понятия роли, видит свою задачу не в манифестации дистанции между ролью и своим Я, а, напротив, в том, чтобы эту дистанцию уничтожить и усвоить, интериоризировать роль до полного слияния маски с лицом. Если художник театрального типа свою роль (одну или несколько) играет, то художник, претендующий на аутентичность, в нее вживается, себя с ролью отождествляет. Игнорируя двойственность человеческой личности, отвергая как социологическое, так и антропологическое обоснование разрыва между Я и ролью, поэтика сентиментализма, реализма и соцреализма требует творческого воплощения идеала, будь то идеал «чувствительного» человека или человека «нового». Что касается теургического художника[40], то он также противопоставляет свое искусство жизни театральности, но ориентируется на ритуал, стремясь, в отличие от художников театрального и аутентичного типов, стать не демиургом-узурпатором творческой воли Бога, а ее избранным выразителем[41]. При всех различиях между тремя вариантами жизнетворчества общим для них является принцип инсценировки, но если театральный тип выставляет ее напоказ, то аутентичный, как и теургический, художники своей жизни стараются ее завуалировать. Инсценировка, пишет Вольфганг Изер, «живет тем, чем она не является», «все, что в ней материализуется, обслуживает отсутствие, которое, хотя и получает отражение в присутствующем, как таковое актуализации не подлежит» (Iser, 1993, 511). И далее: «Инсценировка может тем самым рассматриваться как форма автоинтерпретации человека» (Там же, 512)[42]. Под инсценировкой Изер подразумевает базовый антропологический принцип: человек инсценирует себя как существо эксцентрическое, что отнимает у него всякую возможность быть аутентичным. Художники своей жизни инсценируют себя сознательно – и когда они играют роль (вариант театральности), и когда подчеркивают свою аутентичность и подлинность (вариант «антитеатральности»), и когда пытаются воссоединиться с божественным первоначалом, выступая носителями его творческой воли (вариант ритуальный)[43].
Прежде чем перейти к подробному анализу указанных моделей жизнетворчества, обратимся к некоторым программным текстам, в которых искусство жизни впервые было тематизировано как принцип поэтики и автопоэтики.
9
Эрика Фишер-Лихте дает определение «актер как знак» (Fischer-Lichte, 1994, 94 и далее), ссылаясь при этом на социолога Герберта Мида, описывающего идентичность как результат коммуникации: «Индивид достигает самосознания не непосредственно, а лишь опосредствованно, под взглядом других членов своей общественной группы ‹…› Ибо собственный опыт в качестве лица, обладающего идентичностью, он вводит в игру не прямо и непосредственно, но лишь постольку, поскольку становится объектом для себя самого и усваивает отношение к себе со стороны других индивидов, включенных в его социальное окружение, в поле его опыта или в его поведенческий контекст» (G.H. Mead. Geist, Identität und Gesellschaft, 1975, 2. Aufl., 180. Цит. по: Fischer-Lichte, 1994, 94 и далее). Играя избранную роль, художник своей жизни наибольшим образом зависит от коммуникации, от постороннего восприятия.
10
С особой выразительностью это демонстрируют постоянно возникавшие в среде символистов скандалы, которые отличаются от позиции épater le bourgeois тем, что последняя скандализирует тело сознательно.
11
На подобное «лишение литературного текста его привилегий» указывает Бахман-Медик во введении к сборнику «Культура как текст» (Kultur als Text), посвященному изучению механизмов взаимодействия между литературой и другими культурными кодами (Bachmann-Medick, 1996, 46). Она опирается, в частности, на cultural poetics Стивена Гринблатта, который в своих работах сосредоточивает внимание на «договорах, процессах обмена, ‹…› отклонениях и исключениях, позволяющих вычленить отдельные практики репрезентации из всех других, частью весьма сходных» (Bachmann-Medick, 1996, 46).
12
О понятии культуры и принципах ее анализа в работах Раймонда Уильямса см.: Karrer, 2002. Каррер указывает на то, что в то время как в Германии культурологические дисциплины не прерывали связи с традицией страноведения и этнологии, в английской науке после шестидесятых годов произошел разрыв с традиционной парадигмой в области теории культуры (336); Раймонд Уильямс явился одним из основоположников этого нового подхода к культуре, возникшего в контексте движения «новых левых» (336).
13
Это, однако, не означает, что канон игнорируется; напротив, он принимается во внимание как часть культурного поля. Так это и в работах Мике Баль (Mieke Bal, 2002), которая исследует как маргинальные жанры (граффити, семейные фотографии), так и классические тексты Пруста, Рембрандта, Караваджо. Вместе с тем Баль рассматривает классиков и как героев поп-культуры; культурные объекты находятся, с ее точки зрения, в постоянном движении, в странствии. Странствие – центральный мотив культурологических штудий Баль, ее вклад в Cultural Studies. Понятия и тексты культуры пускаются в странствия, видоизменяясь в зависимости от новых контекстов, но и сами аналитики передвигаются в пространстве интердисциплинарности – и вместе с тем меняется фокус изучения произведений искусства: от визульного к вербальному их восприятию и в обратном направлении, от одного субъекта восприятия к другому.
14
Список может быть существенно дополнен; Карл Эмерсон показывает, что Выготский, Бахтин, Гинзбург и Лотман определяют самость человека во многом по-разному: Бахтин и Гинзбург полагают, что идентичность личности манифестирует себя в слове (Emerson, 2002, 116), причем Бахтин акцентирует диалогическое Я, а Гинзбург – социально обусловленное (115). Более близки, по видимости, позиции Выготского и Лотмана – тот и другой обращают внимание «не только на слово, но – и, видимо, преимущественно – на сцену, на жест, на воплощенное действие» (127) и ставят вопрос о том, каким образом самость становится самостью как на пути осмысления собственных рефлексов, так и вследствие зависимости от поведенческих кодов той или иной исторической эпохи. По Лотману, успешность биографии обеспечивается включенностью в систему, в рамки «социосемиотической нормы», которая не подлежит изменению и всякое отклонение от которой влечет за собой скандал. По Выготскому же, сознательное «Я» формируется прежде всего вне системы: «Человек учится творчески только тогда, когда его автоматизированные рефлексы блокируются или прерываются ‹…›» (129).
15
К изучению конкретных примеров см.: Эткинд, 1994; Эткинд, 1996; к вопросам теории: Ėtkind, 1996.
16
Особый интерес в отношении искусства жизни представляет сформулированное Гринблаттом понятие self-fashioning, которому он дает следующее определение: «Self-fashioning принимает ряд новых значений: оно описывает практику поведения родителей и учителей, отсылает к хорошим манерам и умению себя вести, в особенности применительно к высшему свету, может подразумевать лицемерие, или обман, или соблюдение внешних формальностей этикета. Оно предполагает репрезентацию характера или намерений в форме речи или поступка» (Greenblatt, 1980, 3). Понятие репрезентации перекидывает мост к литературе: «self-fashioning вызывает интерес именно потому, что не признает четкого отделения литературы от общественной жизни, постоянно пересекая границу между такими процессами, как создание литературных персонажей, формирование личности, воспитание ее под воздействием сил, которые человек не в состоянии контролировать, опыты создания других вариантов своего Я» (Там же).
17
В обзорной статье о новом историзме Монтроз писал: «В центре внимания их работ находилось инновационное описание культурного поля, в рамках которого создавались канонические литературные и драматические произведения эпохи Ренессанса, определение их места не только по отношению к другим видам дискурсов, но и по отношению к современным социальным институтам и недискурсивным процессам» (Montrose, 1996, 63).
18
Элизабет Бронфен предлагает определять подобные способы интерпретации с помощью понятия cross mapping, под которым она подразумевает «взаимоналожение или картографирование фигур мысли» (Bronfen, 2004, 11). Тем самым она легитимирует выявление и взаимодействие дискурсов, то есть выход за пределы эстетического дискурса, а также интертекстуальный подход, не укладывающийся в рамки «компаративистского сравнения текстов» (Там же). Однако cross mapping ориентирован у Бронфен на диахронию, ее интересуют рефигурации в пространстве истории, «имагинативные прыжки в пространстве и времени» (12), которые совершают толкователи – читательницы, зрительницы, критики.
19
См. сборники научных трудов на эту тему: Engelstein / Sandler, 2000; Ebert, 2002. Последний из них отрецензирован автором (Schahadat, 2004).
20
Статья Цвейте, опубликованная в каталоге выставки современного искусства, анализирует трансформации и интерпретации, которым подвергалось приведенное высказывание Рембо с конца XIX века до сегодняшнего дня: «То, что у Рембо отмечено печатью трансценденции и служит предпосылкой для превращения Я в другого, становится у Адорно после ужасов, пережитых человечеством в ХХ столетии, знаком имманенции, поскольку не только субъекты творчества, но и их произведения уподобляются теперь ужасному, и не только в плане мотивов, но и по своей структуре» (Zweite, 2000, 29). Следует указать также на психоаналитическую трактовку Лакана, неточно цитирующего Рембо (Le moi est l’autre).
21
См.: Hansen-Löve, 1996, 414 – 416.
22
В работе Ханзен-Леве (Hansen-Löve, 1996, 415) читаем: «Деформация биографических фактов в контексте литературной личности автора допускает методическое сравнение с деформацией, превращающей материал I в материал II путем вторжения первично-конститутивного приема в эстетический контекст». Лидия Гинзбург пользуется для обозначения эстетической деформации понятием «моделирование», при котором отношение между реальным лицом и концептуальным проектом личности регулируется посредством «функционального воспроизведения» (Гинзбург, 1971, 17).
23
«Автор выставляет себя напоказ под маской своего литературного облика вне своего произведения и происходящих в нем преломляющих реализаций; он являет себя как исполнитель той роли, которую в произведении он репрезентирует в качестве соотнесенной с ним вымышленной личности, в качестве воплощенной точки зрения ‹…› и таким образом реверсивно придает воображаемому, иллюзорному воплощению или языковой персонификации характер объективного существования» (Hansen-Löve, 1996, 416).
24
Ханзен-Леве (Hansen-Löve, 1996, 417) указывает на тот факт, что формалисты пользовались понятием «литературная личность» применительно к обоим аспектам восприятия фигуры автора, так что нередко лишь контекст может подсказать, о каком из двух полюсов понятия «автор» идет речь.
25
Кэрил Эмерсон полагает, что Лотман и Гинзбург представляют два совершенно различных подхода к проблеме изучения личности. Гинзбург близка к Бахтину по признаку «логофилии», Лотман же, как и Выготский, выдвигает на передний план соотношения Я и знака, будь то в рефлексологии Выготского или в семиотике Лотмана (Emerson, 2002).
26
Отношения между жизнью и текстом многократно служили предметом изучения применительно к различным эпохам и задачам. Так, Ирина Паперно показывает специфику реалистического искусства жизни в своей книге о романе Чернышевского «Что делать?». Вопреки представлению о том, что в поэтике реализма текст и жизнь резко друг от друга отделены, Паперно доказывает, что реалистический роман также мог служить моделью для организации жизни. Когда тексту приписываются признаки действительности, литература рассматривается как инструмент изменения жизни. Такой тип взаимодействия текста и жизни иллюстрирует credo Чернышевского «Прекрасное есть жизнь» (1949, 10), причем центр тяжести приходится у Чернышевского на «жизнь». Это соответствует типологии отношений «текст – реальность» в трактовке Деринг / Смирнова (Деринг / Смирнов, 1980): в первичных художественных системах точкой отсчета и референтом для художественных текстов является эмпирическая действительность, тогда как вторичные художественные системы (романтизм, символизм) ориентированы на текст, который проецируется на жизнь. Акценты расставляются в каждом конкретном случае различным образом. В поэтике символизма как вторичной художественной системы исходной точкой выступает не жизнь, а текст. Жизнь воспринимается как система знаков и получает признаки текста. Если реализм движется по пути «Жизнь – текст – жизнь», то символизм отказывается от первого члена, и началом жизнетворческого акта становится для символистов текст. Аналогичную типологию предлагает Ингольд (Ingold, 1981): относительно символизма он отмечает «микширование наплывом» и «превышение» реального текста жизни текстом идеальным. Реальный текст символисты транспонируют в идеальный, перенимающий при этом «функцию моделирующей системы» (1981, 38). Несколько иначе обстоит дело, по мнению Ингольда, в искусстве авангарда, где художник возвращается к тексту реальной жизни (47). Следует, однако, подчеркнуть, что типологизации такого рода не абсолютны и каждая эпохальная модель знает также альтернативные решения.
27
В качестве примера Лотман указывает на биографию Радищева; его самоубийство представляло собой, по Лотману, театрализованную катастрофу, призванную логически завершать жизнь, состоявшую как бы из пяти актов (1992, 263 – 265).
28
Как учителя жизни рассматривал себя и сам Плутарх: судьбы великих людей, которые он описывал, должны были служить образцом для подражания или предостерегающим примером. Плутарх преследовал педагогические цели (Giebel, 2000, 9).
29
Тип «денди», художника своей жизни, в эпоху романтизма исследован Кисселем (Kissel, 1987). Вслед за Лотманом Киссель доказывает тезис о том, что роли, импортированные в русский быт с Запада, русское дворянство подвергало дальнейшей театрализации и ритуализации. Работа Кисселя содержит ряд очерков, посвященных конкретным представителям русского дендизма (Грибоедову, Чаадаеву, Пушкину и Соболевскому), но теоретический анализ данного явления у него отсутствует. В качестве признаков дендизма Киссель называет культуру щегольства («щегольская культура» – понятие, введенное Лотманом в связи с общей темой орнаментальности), меланхолию, тиранию моды, провокацию. История английского и французского дендизма изучалась Гюнтером Эрбе. Включая дендизм в «традицию аристократических биографий» (Erbe, 2002, 16), он подчеркивает, однако, что денди не следует какой-либо регламентированной модели поведения, а реагирует на «смену вкусов beau monde» (17). Эпохой расцвета дендизма Эрбе считает первую половину XIX века, а время fin de siècle – периодом возрождения дендизма (299). Исследование Эрбе дает основания для того, чтобы дополнить признаки, перечисленные Кисселем, такими, например, как контроль над аффектами и подавление сексуальности; в любом случае денди неизменно практикует «культ своего Я» (20).
30
Понятие инсценировка рассматривается в данной работе ниже; здесь следует лишь отметить, что в современной дискуссии на тему театра оно употребляется не менее часто, чем понятие перформанс (Performance / Performanz), и используется в различных значениях. К вопросу о формировании этого понятия как языкового явления («Inszenierung / Inscenierung / In Szene setzen») см. введение Фишер-Лихте к сборнику «Inszenierung von Authentizität» (Fischer-Lichte, 2000, 13 и далее). Фишер-Лихте подчеркивает, что понятие инсценировки эволюционирует и развивается вместе с представлениями о театре (17), и, ссылаясь на Евреинова, Плеснера и Изера, рассматривает его как категорию одновременно эстетическую и антропологическую (20 и далее).
31
В данном случае Гинзбург рассматривает реализм как продолжение традиции сентиментализма, сознательно выдвигавшего программу формирования новой личности. В качестве примера она называет Жуковского, который находился под влиянием широко известной в масонских кругах книги Иоанна Масона «Познание самого себя» (John Mason «Self-Knowledge»), переведенной на русский язык в 1783 году. Опираясь на дневники Жуковского, Гинзбург показывает, сколь упорно он трудился над усовершенствованием собственной личности (Гинзбург, 1971, 50 и далее).
32
В разделе, посвященном Белинскому, Гинзбург демонстрирует, как имена Хлестакова или Гамлета становились метонимическими знаками психологических типов, с которыми отождествлялись реальные лица (1971, 71 – 134).
33
Собственно говоря, понятие «аутентичного» искусства жизни следовало бы каждый раз заключать в кавычки, так как речь идет, в сущности, о квазиаутентичности, о демонстрации аутентичности.
34
Данное высказывание, которое Исупов рассматривает как ключ к проблеме эстетизации действительности в русской культуре, входит в контекст размышлений Одоевского об особенностях «славянского Востока» как утопии, противопоставленной культуре Запада. По Одоевскому, культура славян складывалась не в борьбе между народом и властью, а в атмосфере свободы. Ее законы направлены не на удовлетворение сиюминутных потребностей отдельного лица, а на достижение всеобщего счастья. Славянская поэзия не опирается на рационалистическое знание истории, а раскрывает ее смысл с помощью магии поэтического слова (Одоевский, 1975, 182).
35
Концепция Исупова напоминает теорию перформативности речевого акта, на которую автор, однако, не ссылается.
36
Подробнее о понятии инсценировки см. ниже.
37
Элементом этого контекста является, в частности, топос о России как мираже, как о «ничто». См.: Uffelmann, 2001.
38
Русская концепция искусства жизни корреспондирует с западной философией постмодерна: в том и другом случае происходит дестабилизация представлений об аутентичности, субъекте, последовательности и непрерывности, об оппозициях; в том и другом случае предпочтение отдается промежуточным пространствам, отзвукам (следу) чужого, отсылкам к нему. Вот почему понятийный аппарат постмодерна так хорошо подходит для описания феномена искусства жизни в русской культуре.
39
О различии между поэтом-демиургом времени декаданса и таковым эпохи символизма см.: Hansen-Löve, 1998, 72.
40
Понятие теургического искусства жизни сформулировано нами с опорой на философию Владимира Соловьева, у которого теургия является центральной эстетической категорией, позволяющей ему соединить эстетику с мистикой и рассматривать их единство как условие обожения человеческой личности. В сочинении «Философские начала цельного знания» (1877) теургией названо «субстанциальное единство» эстетического творчества и мистики (Соловьев, 1990, 74). В основе теософии Соловьева, включающей на равных правах элементы религиозного, философского и эстетического мышления, лежит идея всеединства, которая постигается с помощью художественного творчества как творчества теургического, имеющего божественную природу. В первой части статьи Соловьева «Три речи в память Достоевского» (1881 – 1883) читаем: «Не довольствуясь красотой формы, современные художники хотят более или менее сознательно, чтобы искусство было реальной силою, просветляющей и перерождающей весь человеческий мир» (Соловьев, 1990, 293). Под «реальным» Соловьев подразумевает абсолютное, а точнее, «первичное Абсолютное» трансцендентного бытия Божия (см.: Зеньковский, 1989, 68). Понятие теургии было известно уже в эпоху раннего символизма, по Ханзен-Леве, символизма I, «диаволического» (Hansen-Löve, 1989, 7 – 44). Символисты старшего поколения (Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Брюсов и др.) придавали теургии своего рода театральный характер, рассматривали ее как религию искусства, то есть религию эстетизированную (у представителей символизма II это уже не так; Иванов считает целью теургии не художественный образ божества, а его абсолютное присутствие). К вопросу о религии искусства в символизме I см.: Hansen-Löve, 1989, 408 – 444.
41
См. разработанную Ханзен-Леве концепцию мифопоэтического символизма (Hansen-Löve, 1993, 29), переосмысляющего эстетическую функцию в религиозном аспекте.
42
В работе Фишер-Лихте (Fischer-Lichte, 1998, 87) ссылка на Изера позволяет толковать понятие инсценировки как в аспекте эстетики, так и антропологически.
43
Понятие аутентичности, противопоставленное понятиям театральности и инсценировки, предполагает идеал, которого «желают, требуют, чтобы оправдать представление о субъективности» (Wetzel, 1985, 15), то есть аутентичность наряду с диалектически соотнесенным с нею понятием-двойником «автономность» (см.: Wetzel, 1985) служит предпосылкой для существования субъекта. Метафоры зеркала и двойника отражают страх не узнать или не встретить свое Я. Тексты исповедального характера исходят, напротив, из надежды обрести аутентичное Я, его выявить и тем не менее обнаруживают все же зависимость от его сделанности, сконструированности. О текстах-исповедях и их мнимой транспарентности см.: Schramm, 2001.