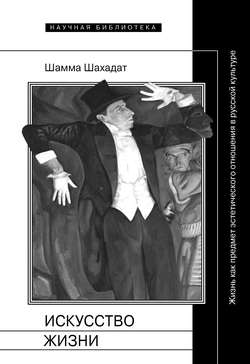Читать книгу Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков - Шамма Шахадат - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Художники своей жизни. Модели и образцы[6]
1. Теоретическое введение
1.3. Ритуал и театр как модели жизнетворчества
1.3.1. Ритуал как модель теургического жизнетворчества
ОглавлениеВ контексте темы жизнетворчества ритуал представляет интерес по целому ряду соображений. С одной стороны (при взгляде на художника из внешней по отношению к нему метаперспективы), ритуал может рассматриваться как сакральная модель поведения, с другой – художник может сознательно узурпировать ритуал в форме пародии, как это было в обществе «Арзамас». Вяч. Иванов обращается к ритуалу в связи с проектом театра-мистерии. Благодаря повтору ритуальный характер способны приобретать также те или иные действия, которые изначально к ритуалу не относились, например акт épater le borgeois; такова, в частности, ритуализация скандала в футуристической среде.
Началом почти бесконечной научной дискуссии на тему ритуала явилась книга Тейлора «Происхождение культуры» (1873), после которой эта дискуссия все больше перемещалась из области антропологического религиоведения в сферу социологии. К числу ее аспектов, представляющих наибольший интерес в контексте проблематики «жизнь как искусство», относятся такие, как перформативность ритуала, его повторяемость, его связь с сакральностью, отношение между ритуалом и обществом.
Все исследователи ритуала признают его перформативный характер. По Тейлору, религиозные ритуалы представляют собой «теологический язык жестов» («gesture language of theology») и делятся на экспрессивные и символические (Tylor, 1958, 448). Ван Геннеп выделяет ритуалы перехода, подчеркивая значение пересечения границы; Виктор Тернер дает ритуалу определение «performance of a complex sequence of symbolic acts» (1986, 75); в антропологии Роберта Бокока выдвинут тезис о том, что лишь ритуал сохраняет роль жеста и тела для современной культуры, которая в силу ее рационалистичности их отрицает[69]. Еще решительнее утверждает перформативность ритуала Топоров, считающий его выражением способности человека к действию (Топоров, 1988, 16). По Топорову, ритуал и миф, являясь своего рода «семиотической протосистемой» (Там же, 18), выступают как источники человеческой креативности, причем первый коррелирует с действием, а второй – со словом (Там же, 24). Этому тезису соответствует интерпретация ритуала как проигрывания в действиях мифа о сотворении мира: ритуал повторно воспроизводит акт творения, люди повторяют деяния богов (15, 47). Из рассуждений Топорова явствует, что как homo performans (Turner) человек рождается именно благодаря ритуалу, ибо представляет одновременно субъект и объект, актера и зрителя, носителя перформативного и рефлективного начал, творца и творение, Бога и человека.
Именно вследствие своего перформативного характера ритуал является необходимым источником искусства жизни; художник, созидающий свою жизнь, напоминает участника ритуального действа, который сам полагает себя в качестве объекта и тем самым переживает возрождение. Вместе с тем в ходе перформативного акта оживает мертвая буква, что также коррелирует с христианским ритуалом литургии – символ обретает реальность, отсутствующее воплощается, божественное Слово становится плотью[70].
Устойчивым признаком ритуала является повторяемость; ритуал всегда копирует исходное, изначальное действие (например, акт творения), и оно дублируется снова и снова совершенно так же, как если бы происходило впервые. Благодаря этому ритуал снимает различие между оригиналом и копией, между творцом и узурпатором творения. Участник ритуала поступает так, как будто бы он и есть творец, хотя в действительности им не является; он повторяет деяние другого как собственное, как будто бы совершает его впервые, выдавая копию за оригинал, репрезентацию за присутствие. В этом заключается отличие от театра, который также живет благодаря повторам. Но, в отличие от театрального актера, участник ритуального действа стремится уничтожить дистанцию по отношению к оригиналу, добиться присутствия оригинала в копии. В то время как театр разыгрывает свои представления в пространстве между оригиналом и ролью[71], ритуал эту дистанцию уничтожает и придает копии видимость аутентичности; в этом пункте театр эпохи модерна, как, например, театр жестокости Арто, подражает ритуальным формам. Повторение, имитация и напряжение, из них возникающее, – вот что лежит в основе искусства жизни, независимо от того, подвергается ли вторичность такого действия отрицанию, как в ритуале, или используется, как в театральном представлении. Художник своей жизни – это, как правило, копия некоего оригинала, будь то персонаж романа («Что делать?»), или мифологический герой (Орфей, Пигмалион[72], Дионис), или социальный тип (революционер, денди)[73]. Участник ритуала усваивает этот прообраз, воплощает его в себе, тогда как театральный актер ведет с ним игру, причем в первом случае прообраз подвергается сакрализации, а во втором – профанации.
Проблема связи ритуала с сакральным остается до конца не выясненной потому, что понятие ритуала изучалось преимущественно в рамках социологии, извлекавшей ритуал из религиозного контекста и трактовавшей его семантику расширительно. Если Марсель Мосс, заложивший основы социальной антропологии[74], еще ставил воздействие ритуала в зависимость от религиозной веры (религиозные ритуалы ориентированы на духовные сущности – Mauss, 1968, 406), то уже социальная психология Эрвина Гофмана или лингвистическая школа (Werlen, 1984)[75], занимаясь ритуалом, полностью игнорируют его сакральное происхождение[76].
Между тем именно аспект сакральности образует ту специфику ритуала, которая отличает его от таких родственных ему форм, как обычаи, нравы, придворные церемониалы или театр[77]. Когда ритуал отвлекается от своего религиозного контекста, это влечет за собой сакрализацию профанного. В истории русской культуры свидетельством этого являются, например, «Всешутейшие соборы» Петра I, представлявшие собой вариант parodia saora, в которой религиозный смысл ритуала выворачивался наизнанку, вследствие чего сакральное получало новое толкование. Таковы же и заседания общества «Арзамас», на которых, как показал Проскурин (1996), божеством провозглашался хороший вкус. Нечто подобное наблюдается и при сакрализации политической власти, примером чего может служить культ личности Сталина. Во всех этих случаях рационалистическое расколдовывание мира получает компенсацию в виде создания эрзац-божеств.
После того как Эмиль Дюркгейм сделал далекоидущий вывод о том, что обряды порождают общественную структуру[78], целое направление науки о ритуале сосредоточило свои усилия на изучении его социальной функции. Так, было доказано, что посредством ритуалов осуществляется не только акт коммуникации между человеком и Богом, но что ритуал, подобно мифу, служит урегулированию социальных конфликтов[79], поскольку способствует включению индивида в коллектив[80]. По мысли Малиновского, ритуал способствует преодолению эмоциональных стрессов (Malinowski, 1954, 87)[81]; дальнейшее развитие эта мысль получает в теории систем, исходящей из того, что ритуалы создают «основу социальной уверенности»:
Благодаря ритуализациям внешние неопределенности интериоризируются и происходит их преобразование в жесткие схемы, которые могут быть лишь реализованы или не реализованы, но не допускают вариантов, исключая способности к заблуждению, лжи и девиантному поведению. Ритуализации не требуют от системы большой сложности
(Luhmann, 1994, 253).
Луман подчеркивает в ритуале его аффирмативность, позволяющую ему функционировать в качестве стабилизирующего фактора общественной системы. В том же направлении движется мысль Топорова: «Смысл ритуала именно в том, чтобы включить непрерывное, хаотическое в строгие рамки своей структуры и усвоить себе их» (Топоров, 1988, 44). Таким образом, ритуал аффирмативен и подтверждает существующее, исключая отклонения от нормы. Именно такое свойство ритуалов, как нейтрализация «способности к заблуждениям, лжи и девиантному поведению», делает их противоположностью театральной ролевой игры, которая всегда навлекала на себя подозрения в лживости и притворстве. Рассмотренные выше оппозиции «оригинал – копия», «творец – узурпатор» могут быть дополнены такими контрастными парами, как «надежность – ненадежность», «истинность – лживость», «искренность – притворство».
Подведем предварительные итоги: теургическое искусство жизни базируется на ритуализации жестов, моделей поведения, габитуса[82]. Ее признаками являются перформативность, повторяемость, связь с сакральным и функция стабилизации индивида. Если перформативность и повторяемость присущи всем формам искусства жизни, то включенность в сакральный или сакрализованный контекст, а также нетребовательность в отношении «сложности системы» имеют решающее значение лишь для художников теургического типа, которые действуют в согласии с религиозно-мифологической метамоделью.
Образец такого поведения дает Вяч. Иванов – его искусство жизни теургично и ориентировано на ритуал. В личной биографии он проживает тот ритуал возрождения через смерть, который описывает в текстах, посвященных эросу и дионисийской мистерии. Его знаменитые «среды» и «вечера Гафиза» в Башне на Таврической улице представляли собой попытку воплощения теоретических принципов в реальной жизни, и так же обстояло дело с эротическим союзом трех, в который наряду с Ивановым и его женой Лидией Зиновьевой-Аннибал входило третье лицо. В общине любящих каждый должен был пережить тот ритуальный экстаз, который означает очищение и подготавливает возврат индивида в божественное Всеединство[83].
69
Определение Бокока гласит: «Ритуал есть символическое использование телодвижений и жестов в определенной общественной ситуации с целью изобразить и выразить некий смысл» (Bokock, 1937, 37) – здесь особенно подчеркнут аспект телесности.
70
Более детальное разграничение ритуала и театра проводит Грюбель (Grübel, 1994, 114): в то время как архаический ритуал характеризуется «полнотой присутствия» и означает «действенную и потому постоянно актуальную причастность к всеохватывающему космическому процессу», религиозная литургия имеет статус вторичного действия постольку, поскольку является «воспоминанием и воспроизведением». Отсюда следует, что художник теургического типа, когда он смешивает текст с жизнью, выходит за пределы «воспоминания» и стремится к ритуальному соучастию во всеобщем мировом процессе.
71
В различных вариантах эта дистанция может либо сокращаться, как в театре Станиславского, либо возрастать, как в условном театре Мейерхольда. Метод Станиславского соответствует ритуалу в том смысле, что повторение способствует достижению подлинности переживания и вчувствования в роль, выражая принцип «как будто бы». Станиславский писал о сверхиндивидуальном пути к обретению сверхсознания; обретение сверхсознания означало для Станиславского «овладение реальностью» (Ямпольский, 2000, 28), которое предполагает и власть над границей, возможность пересечения границы между искусством и жизнью, миром и индивидом; две различные духовные территории соединяются в одну, обнаруживающую, по Станиславскому, аутентичность.
72
См.: Masing-Delić, 1994.
73
Гринблатт усматривает начало искусства self-fashioning в Imitatio Christi и показывает, что когда имитация отделяется от имени Христа, она попадает под подозрение в фальши и лжи (Greenblatt, 1980, 2 и далее). Об этом аспекте подробнее см. в главе, посвященной ролевому поведению.
74
К вопросу о классификации различных школ (философия религии, социология религии, social anthropology, социология) см.: Sigrist, 1992.
75
За указание на книгу Верлена благодарю Хельгу Котгоф.
76
Согласно определению Гофмана, ритуал есть «механическое, конвенциональное действие, посредством которого индивид выражает свое почтение к объекту, обладающему высшей ценностью по отношению к самому этому объекту или объекту, его замещающему» (Goffmann, 1974, 97). Верлен исключает понятие «объект, обладающий высшей ценностью» и рассматривает ритуал как «экспрессивное институционализированное действие или последовательный ряд действий» (Werlen, 1984, 81), допуская тем самым насыщение ритуала более разнообразным смыслом.
77
Байбурин (1993, 16 – 25) рассматривает ритуал как «форму поведения», полагая, что ритуал и родственные ему формы поведения (обычаи, игры, этикет) характеризуются символичностью, но не связаны генетически и потому структурируют и контролируют «различные фрагменты жизни», переводя их в символические формы.
78
К этой краткой формуле Зигрист (Sigrist, 1992, 1054) свел определение, выдвинутое в 1912 году Дюркгеймом, – «Les formes élementaires de la vie réligieuse». У Дюркгейма читаем: «Если религиозный принцип ‹…› есть не что иное, как гипостазированное и трансфигурированное общество, то ритуальная жизнь должна поддаваться интерпретации в нерелигиозных социологических понятиях. ‹…› Для того чтобы иметь право рассматривать действенность ритуалов как нечто иное, чем результат хронического умопомешательства, с помощью которого человечество обманывает само себя, следует доказать, что культ действительно обладает силой воздействия, способной периодически возрождать нравственную сущность, от которой мы зависим так же, как она от нас. Эта сущность действительно имеет место – таково общество» (Durkheim, 1960, 495 и далее). Дюркгейм говорит здесь о «положительных обрядах» («cultet positif». Там же, 465 и далее), которые устанавливают отношение между священным и профанным.
79
О функции мифов способствовать разрешению и примирению жизненных и социальных противоречий см.: Lévi-Strauss, например его книги: «Структура мифа» или «Mythologica».
80
Эту мысль подтверждает и Виктор Тернер, высказывая мнение о том, что ритуал ведет свое происхождение от «социальной драмы» и является ее дальнейшим развитием: «Я убежден в том, что основные жанры культурного перформанса (от ритуала до театра и кино) и нарратива (от мифа до романа) не только берут свое начало в социальной драме, но и продолжают черпать в ней свое значение и силу» (Turner, 1986, 94). В таком случае ритуал теряет свою специфику, становясь культурным перформансом в ряду других, одной из форм репрезентации inter pares – абсолютно в смысле Нового историзма.
81
Малиновский обратился к изучению ритуала в связи со своими занятиями магией; относительно религии и магии он отмечает: «Как магия, так и религия возникают и функционируют в ситуациях эмоционального стресса – кризиса жизни, отсутствия значительного дела, смерти, посвящения в тайну племени, несчастной любви, неудовлетворенного чувства ненависти. Как магия, так и религия предоставляют спасительный выход из таких безвыходных ситуаций, и никакой другой эмпирический опыт, кроме ритуала и веры в сверхъестественное, не может предоставить подобный выход» (Malinowski, 1954, 87).
82
Благодаря ритуализации габитус как «система интериоризированных образцов» (Bourdieu, 1997, 143) осознается, внутреннее выводится наружу.
83
См. об этом: III, 2, 4.