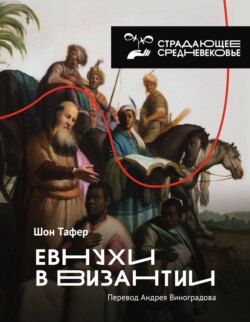Читать книгу Евнухи в Византии - Шон Тафер - Страница 9
Глава 2
Изучение евнухов. Подходы, исследования и проблемы
Типы подходов
ОглавлениеОтношение историков Нового времени к евнухам можно охарактеризовать как отвращение и враждебность. Прекрасно иллюстрирует это Эдвард Гиббон в своей книге «История упадка и разрушения Римской империи». Описывая образ позднеантичного императора Констанция II (337–361) и его правление, Гиббон начинает с атаки на евнухов:
Разделенные провинции империи были снова объединены благодаря победе Констанция. Но поскольку этот слабый принцепс был лишен личных достоинств, будь то в мирное или военное время, поскольку он боялся своих полководцев и не доверял своим министрам, то триумф его оружия послужил лишь установлению правления евнухов над римским миром. Эти несчастные существа, древнее порождение восточной ревности и деспотизма, были занесены в Грецию и Рим вместе с заразой азиатской роскоши. Их продвижение было быстрым, и евнухи, которые во времена Августа вызывали отвращение как чудовищная свита египетской царицы, постепенно были допущены в семьи матрон, сенаторов и самих императоров. Сдерживаемые строгими эдиктами Домициана и Нервы, лелеемые гордостью Диоклетиана, низведенные до скромного положения благоразумием Константина, они размножились во дворцах его выродившихся сыновей и незаметно оказались известны и, наконец, стали руководить тайными советами Констанция. То отвращение и презрение, с которыми человечество столь единодушно относится к этим несовершенным существам, по-видимому, ухудшили их характер и сделали их почти такими же неспособными, какими их и считали, к проявлению любых благородных чувств или к совершению любых достойных действий. Но евнухи были опытны в искусстве лести и интриг, и они попеременно управляли умом Констанция: его страхами, его леностью и его тщеславием. Наблюдая в их обманчивом зеркале полную видимость общественного процветания, он бездумно позволил им перехватывать жалобы пострадавших провинций, накапливать огромные сокровища за счет продажи приговоров и почестей, позорить самые важные должности, продвигая тех, кто взял в свои руки тираническую власть, и удовлетворять их негодование против тех немногих независимых умов, которые высокомерно отказались просить защиты у рабов[97].
Это мнение – отголосок суждений римских авторов, особенно историка Аммиана Марцеллина[98], и совершенно ясно, что Гиббон не пытался выйти за рамки предрассудков своих первоисточников. По сути, Гиббон согласился с их враждебным взглядом на евнухов. Такая реакция была в действительности заложена еще древними греками, создававшими свой образ Персии в частности и Востока в целом. Эдит Холл описала это так:
Евнухи приводили в ужас и завораживали фаллоцентричных эллинов ‹…› особенно тех, кто прославился, достигнув высоких постов при дворе. Придворные евнухи в воображении греков воплощают в себе систематическую феминизацию Азии: эмоциональные, коварные, раболепные, роскошные и лишенные мужественности, они воплощают разом все нити в канве их ориенталистского дискурса[99].
Этот «ориенталистский дискурс», включающий в себя фигуру евнуха, сохранился и в наше время. Тут легко приходят на память изображения османского двора в западной литературе и искусстве[100]. Тот факт, что евнухи дожили до современности в качестве придворных в Османской и Китайской империях, а также в качестве певцов и сектантов, вероятно, повлиял и на суждения современных историков о евнухах прошлого. Безусловно, всякой объективности лишено обсуждение евнухов Пензером в его исследовании османского гарема, написанном в 1936 году[101]. Отмечая малочисленность евнухов в Турции в тот момент, когда он проводил свои исследования (он смог встретиться только с «двумя или, возможно, тремя из этих странных существ»), Пензер заявляет, что «они были необходимым злом там, где господствовали деспотизм и многоженство, но теперь они ушли в прошлое – и уже вернулись в наше воображение на страницах „Тысячи и одной ночи“, которым, кажется, по праву и принадлежат»[102]. В рамках своего описания евнухов он дает обзор их истории. Он утверждает, что «как правило, власть евнухов не принесла с собой ничего, кроме жестокости, интриг, коррупции и бедствий», и, цитируя тот самый вышеприведенный отрывок из Гиббона о власти евнухов при Констанции II, с некоторым облегчением отмечает далее, что «были те, кто не боялся атаковать эту раковую опухоль, которая разлагала самое сердце Империи»[103]. Пензер также добавляет, хотя и неохотно, обсуждение «физического и психического состояния евнухов», чтобы объяснить устройство гарема и объяснить «его постепенные разложение и упадок, в значительной степени вызванные внедрением и усилением влияния этого непродуктивного, бесплодного, неестественного и совершенно нездорового члена общества – евнуха»[104].
Важно понимать, однако, что враждебность к евнухам обусловлена не только вечным ориентализмом. Например, в своей работе о китайских евнухах Цай отметил, что современные историки Китая полагаются на рассказы ученых-конфуцианцев, которые враждебно относились к придворным евнухам, хотя те были в основном китайцами[105]. Он отмечает, что именно западные ученые смогли подвергнуть сомнению традиционные нарративы и попытались «дать евнухам более сбалансированную оценку»[106]. Тут возникает соблазн понять враждебность по отношению к евнухам и как реакцию некастрированных мужчин на тот факт, что оскопленные мужчины приобретают влияние и власть, или, еще проще, как чувства неспокойных некастрированных мужчин, сталкивающихся с фигурой евнуха. Кое-что из этого беспокойства всё еще проглядывает и сегодня в шутливых или чувствительных реакциях на идею кастрации[107]. Складывается четкое впечатление: мужчины чувствуют, что их мужественности угрожает гендерная двусмысленность евнуха. В случае с хиджрами это, очевидно, еще усиливается из-за принятия ими женских черт. Издевательский репортаж журналиста «Индепендент» о хиджрах демонстрирует устойчивость негативной реакции на евнухов[108]. В статье прослеживается явная ориенталистская направленность, равно как и озабоченность гендерной идентичностью. Тот дискомфорт, что вызывают евнухи, может привести не только к открытой враждебности, но и к нежеланию заниматься этим вопросом, каким бы важным он ни был в историческом плане. Когда Пензер опубликовал свой обзор истории евнухов, он был поражен отсутствием работы, посвященной теме его исследования, и отметил, что труд о них Шарля Ансийона в XVIII веке был выпущен под псевдонимом (д’Ойинкан) и также анонимно переведен на английский (Робертом Самбером)[109]. Его вывод состоит в том, что люди действительно не желали заниматься столь неприятной темой, а если и желали, то не хотели афишировать этот факт[110]. Хотя в последние годы наблюдается растущий интерес к евнухам, стремление избегать этой темы всё еще заметно. Несмотря на признанную важность феномена придворных евнухов в позднеантичный период, два современных «путеводителя» по поздней античности вообще их не касаются[111].
Другим ответом может быть попытка исключить евнухов из истории. Пример этого – обращение историка Тарна с евнухом Багоем[112]. Багой фигурирует в некоторых источниках о жизни Александра Македонского, в первую очередь в истории Квинта Курция Руфа[113]. Евнух появляется там как любовник персидского царя Дария III – роль, которую он впоследствии сыграл и при завоевателе Александра. Однако, поскольку Багой не фигурирует в «Истории Александре» Арриана, а в источниках, сообщающих об этом евнухе, присутствуют некоторые очевидные странности, Тарн утверждал, что Багой в действительности не существовал, но был конструктом, облегчавшим критику Александра. Такой аргумент не лишен оснований, но совершенно очевидно, что Тарн был рад возможности обойтись без Багоя как исторической фигуры, так как был недоволен тем, что Александра считали гомосексуалом. Примечательно, что десять лет спустя историк Бадиан привел доводы в пользу существования Багоя, которое стали признавать[114]. Интересно, что Багой остается противоречивой фигурой: хотя он фигурирует в биографическом фильме Оливера Стоуна «Александр» (2004 год), его любовная сцена с Александром была вырезана из-за ожидаемой реакции зрителей, что подтвердил и сыгравший его актер Франсиско Бош[115].
Несмотря на враждебность и беспокойство, которые демонстрируют одни историки, другие были вполне готовы обсуждать тему евнухов с разных точек зрения (например, институциональной или гендерной истории, личных или практических причин). Как заметил Пензер, к 1930-м годам евнухам было посвящено не так много исследований. Среди работ современных историков о евнухах самая известная из ранних попыток такого рода – «Трактат о евнухах» Шарля Ансийона (1707 год), переведенный на английский язык Робертом Самбером в 1718 году под названием «Изложение евнушества»[116]. Однако оказывается, что главная забота автора – вопрос, следует ли разрешать современным евнухам вступать в брак[117]. Он придерживается твердого и отрицательного мнения, – они не должны этого делать. Вопрос о женитьбе евнухов возник в первую очередь в связи с итальянскими кастратами[118]. Это становится еще очевиднее в английском переводе, вдохновленном случаем, когда молодая леди влюбилась в Николини, который пел в опере театра Хеймаркет, и хотела выйти за него замуж[119]. Общее отношение Ансийона к евнухам можно проиллюстрировать его утверждением, что евнухи похожи на ублюдков (в техническом смысле): иногда могут быть хорошими, но обычно они плохие[120]. В начале ХХ века было опубликовано еще одно французское исследование – «Евнухи сквозь века» Ришара Миллана (1908 год). Миллан был врачом, и это определило его подход к этой теме (он уже писал до этого о кастрации). Тот факт, что его работа была опубликована в серии «Сексуальные извращения», говорит о многом[121]. Миллан, однако, попытался дать точный исторический обзор, опустив, хотя и неохотно, моральные рассуждения[122].
После появления некоторых признаков интереса к теме в начале ХХ века, в создании монографий о евнухах, похоже, снова наступил перерыв, хотя он измерялся теперь десятилетиями, а не столетиями[123]. В 1970-х годах появилась книга Чарльза Хьюманы «Хранитель ложа: история евнухов». Хьюмана начинает с многообещающего просветительского заявления, признавая враждебность, с которой обычно воспринимали евнухов. Он отмечает, что «слишком долго [евнух] оставался таким же таинственным, как гаремы, которые он охранял, таким же скрытым, как наложницы, находящиеся на его попечении, и эта тайна, ответственная за предрассудки и заблуждения прошлого, сохранялась на протяжении веков»[124]. Однако его работа представляет собой странную смесь изложения информации и воспроизведения историй о евнухах, а не всеобъемлющий аналитический обзор. Особенно обширные отрывки взяты им из персидских писем Монтескье, мемуаров Казановы, «Арабских ночей» Ричарда Бертона и исследования китайских евнухов Стента. В книгу было включено и много иллюстраций, но им, как правило, не хватает контекста. Некоторые сочли работу Хьюманы «непристойной» и не представляющей собой значительный вклад в эту тему[125].
Самое современное общее исследование феномена евнухов – книга Шольца «Евнухи и кастраты: культурная история», появившаяся в начале XXI века, хотя ее немецкий оригинал был опубликован еще в 1999 году. Шольц утверждает, что несколько странное отсутствие упоминаний о евнухах в ведущих справочниках по классической древности «побудило [его] исследовать этот забытый предмет глубже»[126]. Его книга отражает растущий интерес к данному предмету и связанным с ним вопросам, что подкрепляется полезным эпилогом, написанным Шелли Л. Фришем, одним из переводчиков книги[127]. Однако исследование Шольца также во многом ограниченно. Оно было написано как «информативный и обширный, хотя и не всегда строго точный, общий обзор предмета» и подвергнуто критике за его озабоченность «эфирным» аспектом кастрации в ущерб другим важным моментам[128].
Однако не во всех обобщающих трудах на первый план выдвинуты именно евнухи – в некоторый темой выбрана кастрация[129]. Выдающийся пример этого – история демаскулинизации Брау, появившаяся в 1936 году. Важность работы Брау, равно как и ее ограниченность, вполне признаны[130]. Хотя оно более научна и строга, чем более ранние французские исследования, но, как правило, фокусируется лишь на Западной Европе. Кроме того, ее ценность для западных медиевистов была уменьшена недавней работой другого немца – исследованием Тухеля о кастрации в Средние века[131]. Тухель также интересуется идеей кастрации, как и ее реалиями, в отличие от американца Чейни, автора истории кастрации, опубликованной в 1995 году. Чейни, отставной военный и специалист в области уголовного права, по-видимому, интересуется этой темой из-за практических соображений – использования кастрации как формы лечения сексуальных преступников[132]. Исследование Чейни рассматривает всю историю евнухов, но такая амбициозность проекта, естественно, означает то, что большая часть его информации взята из чужих работ, и потому она чувствительна к тем ошибкам, с которыми ему пришлось столкнуться. Личностное объяснение озабоченности темой кастрации можно найти и в совершенно ином взгляде на эту тему Тейлора, который размышляет о проблеме мужественности[133]. Он с самого начала ясно показывает свою близость к предмету изучения, описывая, как его подруга хвасталась на вечеринке, что он «исправился», то есть ему сделали вазэктомию[134].
За пределами общей истории евнухов или кастрации лежит область более конкретных исследований, которые могут быть гораздо важнее для расширения знаний о евнухах и наших подходов к этой теме. ХХ век стал свидетелем роста интереса к ней, особенно ближе к своему концу. Лучшее знакомство с позднеантичными и византийскими евнухами очевидно на протяжении всего столетия. Постоянно повторялась тема истории институций: это исследование главных спальничих Данлэпа, серия статей Гийана о должностях византийских евнухов и совсем недавняя монография Шёльтен о главных спальничих в IV–V веках[135]. Попутно были сделаны другие важные замечания и уточнения[136], но, вероятно, наиболее значительной работой стало исследование Хопкинса о феномене могущественных придворных евнухов в поздней античности[137]. Его достоинство заключается в серьезном отношении автора к предмету, а также в использовании им социологического подхода, чтобы понять, почему евнухи стали так цениться позднеантичными императорами. Хотя некоторые аспекты его аргументации могут быть оспорены, он задал очень высокий уровень[138]. Позднее появились заслуживающие внимания исследования по другим темам, таким, как святые евнухи в поздней античности, византийские евнухи-певчие и гендерная идентичность византийских евнухов[139].
Другие периоды их истории также привлекли внимание ученых. Евнухи древности, от Ассирии до поздней Римской империи, были исследованы Гийо[140]. Особый интерес он демонстрировал к рабам и вольноотпущенникам, но его работа имеет гораздо более широкое значение. Очень полезны у него отдельные просопографические заметки об известных евнухах. Однако его монография, похоже, не оказала большого влияния на науку[141]. Что касается греко-римской античности, то область, где изучение евнухов вышло на первый план, – это религия: из-за их роли в определенных культах, включая христианство[142]. Если выйти за границы Греции и Рима, то широко обсуждается существование евнухов в Ассирии и современных ей ближневосточных культурах, и особенно заметный вклад в эту дискуссию внес Грейсон, который применяет сравнительный подход, пытаясь пролить свет на ситуацию в Ассирии[143].
Если же обратиться к другим цивилизациям, то изрядную долю внимания получили китайские евнухи. Посвященные им исследования могут варьироваться от популярных работ до более значительных аналитических трудов[144]. Среди последних – монография Цая о евнухах династии Мин, в которой предпринята попытка деконструировать негативное отношение китайских источников к евнухам и оценить их значение для системы управления в Китайской империи[145]. Новизна подхода Цая такова, что временами ему самому приходится бороться с тем, чтобы преодолеть многовековые предрассудки. Заслуживает внимания также работа Джея, который, выходя за рамки функций императорских евнухов, исследует социальные проблемы[146]. В последнее время объектом пристального внимания стали и евнухи исламского мира. Монография Аялона на эту тему была опубликована посмертно и стала кульминацией двух десятилетий его работы[147]. Его внимание было сосредоточено в основном на политике, но поражает также его решительная попытка проверить всю терминологию, касающуюся евнухов[148]. Евнухи в религиозном мире ислама были рассмотрены в исследовании Мармона, который, в частности, подчеркивает роль евнухов как стражей святых мест, например гробницы Пророка в Медине[149]. Однако в исламском мире существуют аспекты, касающиеся евнухов, которые всё еще требуют дальнейшего изучения. По сравнению с работой Пензера, Пирс в своей монографии о женщинах в гареме использует гораздо более объективный подход к османским евнухам[150], но было бы желательно провести здесь специальное исследование, как и касательно обращения с евнухами в исламской Испании[151].
Как уже упоминалось, кастрация в средневековой Европе стала предметом недавней монографии Тухеля, но появились и более короткие статьи на эту тему, как с общими, так и с конкретными фокусами исследования[152]. Как было отмечено, они, как правило, рассматривают тему кастрации как реалию. Одна из областей, где можно было бы расширить изучение евнушеских реалий на средневековом Западе, – норманнская Сицилия, о которой некоторые полезные замечания уже сделал Джонс[153].
Гораздо больший прогресс был достигнут в отношении кастратов, где традиционные нарративы, которые могут зависеть от принятия автором мифов, созданных в конце XVIII века, были дополнены более аналитической и сложной работой Росселли[154]. Вопрос об их гендерной принадлежности вышел на первый план в труде Финуччи[155].
Наконец, в последнее время была проведена важная работа по исследованию как русских скопцов, так и хиджр. Исследование Энгельстейн первым на Западе смогло опереться на массу документального материала, чтобы создать яркую картину того, что скопцы думали о себе, а также того, что о них думали в российском обществе[156]. Антрополог Нанда смогла пойти еще дальше, имея возможность общаться с самими хиджрами[157].
97
2.19 (1781), ed. Womersley (1994), vol. 1, 684–685. Этот пассаж часто цитируется: см., например, Grayson (1995), 85; Penzer (1965), 138.
98
См., например, Tougher (1999a).
99
Hall (1989), 157. См. также Sancisi-Weerdenburg (1987), особ. 43–44, о значении Ктесия для определения Востока. Замечания о греческом ориентализме см. в Said (1995), 55–57. Однако знаменитое исследование Саида не рассматривает евнухов. Греки также могли позитивно относиться к евнухам, о чем будет рассказано ниже.
100
См., например, Yeazell (2000); Grosrichard (1998). Marmon (1995), особ. 93-101, обсуждает взгляды западных путешественников на исламских евнухов.
101
Penzer (1965), особ. 134–151.
102
Penzer (1965), 150.
103
Penzer (1965), 138. О некоторых реакциях на замечания Пензера см. Ayalon (1999), 37–38.
104
Penzer (1965), 140.
105
Tsai (1996), особ. 7–8, (2002), 221. Западные путешественники, посетившие Китайскую империю, также дают информацию о китайских евнухах: см., например, знаменитый отчет Stent (1877), частично воспроизведенный в Humana (1973), 125–153, и использованный в Anderson (1990), 307–311. Отношение Стента к китайским евнухам носит враждебный характер, но бросает вызов некоторым предубеждениям и завершается сочувственно.
106
Tsai (1996), 8–9.
107
Например, история о том, как Леонардо Ди Каприо столкнулся с трудностями, перелезая через ворота, озаглавлена Leonardo di Castrato в «Сан» 1 февраля 2000 года, или беспокойство певца Дэвида Да о том, чтобы его в шутку не назвали кастратом в фильме «Шрек 2», о чем рассказывается в «Метро» 13 июля 2004 года, 8.
108
Popham (1999).
109
Penzer (1965), 150–151, хотя он думает, что Ансийон – это псевдоним. Milan (1908), 4, считал, что он был первым, кто составил общую историю евнушества и евнухов.
110
См., например, Tsai (1996), 140, отметивший недостаточное внимание, которое евнухи получили у китайских историков.
111
Bowersock, Brown, Grabar, ed. (1999); Maas (2000). Упущение первого также отмечено М. Уитби в Classical Review 50 (2000), 564–546.
112
Tarn (1948), vol. 2, 319–322, в приложении, озаглавленном «Отношение Александра к сексу».
113
О Багое см. Guyot (1980), 190.
114
Badian (1958). Однако, как отмечает Bosworth (1988), 99, n. 218, всё еще есть те, кто в этом сомневается. Несмотря на то, что Бадиан выступает за существование Багоя, сам евнух его мало волнует.
115
Gay Times 315, декабрь 2004 года, 79; Gay Times 321, июнь 2005 года, 90, 92. Печально известно, что Оливер Стоун выпустил версию фильма на DVD, в которой были удалены гомосексуальные элементы оригинальной версии. Тем не менее он выпустил на DVD в 2007 году Alexander, Revisited – Final cut, в котором восстановлена история Багоя (явно многим обязанная «Персидскому мальчику» Мэри Рено). Мы не только видим, как Багой ложится в постель с Александром и начинает заниматься с ним любовью, видим, как Багоя представляют Александру в Вавилоне, по-видимому, как главного евнуха. Эта сцена указывает на то, что Багой был евнухом, что не было ясно в более ранних версиях фильма. Действительно, персидская практика кастрации мальчиков с целью удовлетворения похоти прямо упоминается в сцене, где Аристотель обучает македонских юношей, что дает ключ к истории Багоя. Багой также беседует на смертном одре с умирающим Александром, и старый Птолемей размышляет о судьбе евнуха и его отношениях с Александром. Примечательно, что гомосексуальная составляющая в убийстве Филиппа также становятся понятнее в этой версии фильма.
116
Ансийон посвятил свою работу Пьеру Бейлю (1647–1706), автору знаменитого Dictionnaire historique et critique.
117
Комментарии к этому трактату см., например, в Grosrichard (1998), 150–162; Finucci (2003), 262, 278. Barbier (1996), 152, описывает Ансийона как «типичного представителя суровой морализаторской периферии своего времени».
118
Подробное исследование брака кастрата Бартоломео Сорлизи с Доротеей Лихтвер в Германии в 1667 году см. Frandsen (2005). Еще один вступивший в брак кастрат – Тендуччи, который в 1766 году женился на ирландке по имени Дора Монселл: Heriot (1975), 186–189.
119
Предположительно, это отсылка к Николо Гримальди: см., например, Heriot (1975), 123–129; Barbier (1996), 181–182.
120
Ancillon (1707), 8–9: «L’on peut dire qu’il est des Eunuques comme des Bâtards, qu’ils sont ordinairement mauvais, mais qu’il s’en trouve quelque fois de bons». Samber (1718), 10, переводит это как «one may say of Eunuchs the same that is usually said of Bastards, that for the most part they are very bad, but that sometimes we may chance to find one that may prove good for something». Samber (1718), 30–41, конечно, очень увлечен пением кастратов. Он отмечает, что слышал кастратов, когда был в Риме в 1705–1706 годах (когда учился в Английском колледже в Риме). Он называет имена Паскуалини, Паулуччо (с которым, по его словам, он был близок) и Джеронимо и говорит, что Никколини – «лучший артист-евнух в мире».
121
Humana (1973), 8.
122
Millant (1908), 4–5.
123
Kuefer (1996), 293, n. 3, отмечает другие работы на французском языке о евнухах, современные исследованию Миллана.
124
Humana (1973), 9.
125
См., например, Kuefer (1996), 294, n. 11.
126
Scholz (2001), vii.
127
Scholz (2001), 291–297.
128
Grifn (2001), 36.
129
Тема кастрации, которая пересекается с темой евнухов, но не совпадает с ней, будет рассмотрена в главе 3.
130
Kuefer (1996), особ. 279.
131
Tuchel (1998). Возникает вопрос о том, намеренно ли избегается слово «евнух». Возможно, однако западная озабоченность такого рода исследованиями просто сделала термин «кастрация» более уместным.
132
Cheney (1995), vii-viii, 192–202. О психиатрическом интересе к кастрации, а также к членовредительству, см. Favazza (1996), особ. 176–219.
133
Замечания к этой книге см. в Grifn (2001), 37–40.
134
Taylor (2000), 1, 10.
135
Dunlap (1924), 161–301; Guilland (1967) I, 165–380; Schölten (1995).
136
Например, Runciman (1929), 29–30; Diner (1938), 62–72.
137
Hopkins (1963). Этот серьезный подход к евнухам нашел свое отражение в Coser (1964), который исследует политические функции евнухов. Статья Хопкинса была переработана и включена в Hopkins (1978), 172–196.
138
Дискуссию и уточнения см., например, в Patterson (1982), 317–331; Stevenson (1995). Эти теории будут обсуждаться вместе с теорией Хопкинса в главе 4.
139
См. Boulhol, Cochelin (1992); Moran (2002); Ringrose (2003).
140
Guyot (1980).
141
Как отмечено в Scholz (2001), vii.
142
См., например, Nock (1925); Beard (1994); Turcan (1996), 28–74; Caner (1997); Roller (1997).
143
Grayson (1995). См. также Deller (1999).
144
Среди исследований с более популярным подходом см. Mitamura (1970); Anderson (1990). Комментарий к сенсационному качеству работы Митамуры см., например, в Tsai (1996), 43. Частичный обзор работ по китайским евнухам см. в Tsai (1996), 8–9.
145
Tsai (1996).
146
Jay (1993).
147
Ayalon (1999).
148
Вопрос терминологии будет рассмотрен ниже.
149
Marmon (1995).
150
Peirce (1993), см. указатель.
151
Есть и другие заметные работы об османских евнухах, например, Toledano (1984); Lad (2003). О евнухах в исламской Испании см. Meouak (2004).
152
См., например, Kuefer (1996), Murray (1999).
153
Johns (2002), особ. 212–256. Джошуа Бёрк провел дальнейшие исследования об этом в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. См., например, Birk (2005).
154
Традиционные описания: Heriot (1975); Barbier (1996). Rosselli (1988), (1992), 32–55. Существует также книга, посвященная Морески: Clapton (2004). Rosselli (1992), 32–33, подчеркивает фактор мифотворчества.
155
Finucci (2003), особ. 225–280. См. также интересную работу André (2006), 16–50.
156
Engelstein (1999). См. также Engelstein (2000).
157
Nanda (1998). См. также Nanda (1996).