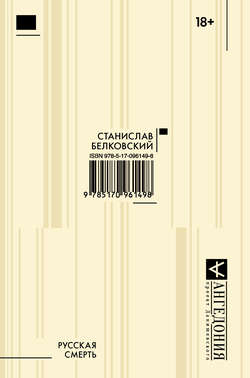Читать книгу Русская смерть (сборник) - Станислав Белковский - Страница 2
Зюльт. Рассказ в одном действии
Восемь и семь десятых
Оглавление– У нас сегодня сколько?
– Тридцать девять и восемь, Леонид Ильич.
– А у них?
– Сорок восемь и пять.
Почему не «Леонид Ильич»? Черт их всех не разберет.
– Значит, мы на десять процентов отстаем?
– Ну зачем на десять?..
«Зачем» – это я тебя хотел спросить. И «почему» – тоже хотел.
– На восемь целых семь десятых.
– А было три с половиной?
– Было три целых пять десятых, Леонид Ильич.
Вот. Теперь есть.
Брежнев еще мог бы напомнить Суслову, что с самого начала было три с половиной в нашу пользу. Но не стал. Зачем напрягать чувака? Он и так весь выглядит, будто на нем картошку чистили.
Привязалось же это слово – «чувак». Молодежь теперь так говорит. Внук, Андрюшка. Или сын. Нет, сын уже не молодежь. Он так говорить не может. Как это – чтобы у семидесятитрехлетнего старика сын был молодежь. Так разве бывает? У семидесятитрехлетнего старика. Семьдесят три. Не так уж много, если задуматься. Какой-то еврейский царь – или пророк, бес их там всех знает – до ста двадцати правил, пока мертвым в бассейне не нашли. Это Никодим рассказывал. А Никодиму-то сколько было, когда умер? Сорок девять. То-то же.
Нет. Даже сорок восемь. До сорока девяти не дотянул немного. Он-то октябрьский. А умер в сентябре. В начале. Еще когда дождь такой крупный бился о кремлевское стекло.
А говорят, у Брежнева памяти нет.
Семьдесят три.
Витя передала. Чазов лепит, что на самом-то деле организм у меня на семьдесят восемь. Минимум. Дряхлый такой. Укатали сивку крутые горки. А зачем передала? Бабы – дуры. С тех пор об этом и думаю. А чего думать-то, если разобраться. Семьдесят восемь минус семьдесят три равняется пяти. Пять лет разницы всего. По сравнению-то со ста двадцатью и смертью в бассейне. Приходят в бассейн в «Завидово», а там – охрана недосмотрела, кирдык.
А еще лучше в бассейне «Москва». Принять с утра рюмочку. Зубровки какой хорошей или наливки. Поехать встретиться с народом. Народ наш советский стариков любит. Уважает, по крайней мере. А стодвадцатилетних-то и подавно. Таких-то стариков никто нигде живыми не видел. Говорят, в горах. В Грузии. Или на Памире. Пик Коммунизма – это на Памире? Вот где-то там. От горного воздуха живут и живут, и ничего им не делается. Никакой Чазов не нужен. Пять лет туда, пять лет сюда – как послеобеденный сон. Хотя врач какой-то мне после войны говорил, что после обеда сон серебряный, а до обеда – золотой. И врач-то был из дворянского рода. Как-то на букву Б. Отчего его не расстреляли, сам не понимаю. Не упоминаю сам.
Но чтобы в центре Москвы и не спустившись с Коммунизма, а прямо прибывши на машине из близлежащей Московской области – такого-то никто не видел. И тогда пойти в бассейн. Передозировка хлорки – и умереть.
И сразу вой-то какой начнется! Мол, кого потерял и-то, чуваки! Тьфу, черт, опять это слово дурацкое. Я-то матом не ругаюсь. А то бы сказал, как есть. Ну почти не ругаюсь. Про себя не ругаюсь. Про себя-то чего ругаться? Ругаться надо громко, чтобы смысл был, и дело становилось. А так просто, как базарный извозчик в такой грузный день…
День и впрямь был грузный. Вроде и холодно, да и как-то не свежо. И кондиционер не включишь, и окно не откроешь. Это они не продумали. Чазов вообще не думает. Зачем Вите говорить, что я дряхлый на семьдесят восемь? Ну зачем? Сегодня семьдесят восемь, а завтра. Бух в котел – и там сварился. Иосиф Виссарионович этого Чазова бы… Нет, уже привыкли. Уже серафиновым спиртом не вытравишь.
Они лучше решили бы, кто некролог писать будет. А то обычного говна сладкого своего нальют: видный деятель коммунистического и рабочего, верный сын чего-то там. А чего я верный сын? Я своих родителей так себе сын. Хотя они-то нынче там радуются. Что не спился их Ленька, и пресс кузнечный ему в цеху ногу не раздавил. А стал их Ленька большим начальником над половиной мира. Ей-ей, не шучу. И если в Берлине Леньку поминают, в Пхеньяне аукается. Полмира. Шутка ли! И слова какие знаю теперь – Пхеньян.
Бовин исчез куда-то. У Игнатенко этого нового, его Суслов привел, рожа какая-то уж больно сладкая. Как у арбуза перекисшего. Воняет прямо гнилым арбузом.
Этот точно сказал бы, что выгляжу на шестьдесят пять. И ни один волос в носу не дрогнул бы.
Тут, правда, мне один чувак…
Ексель-моксель.
Тут один мне парень понравился. И даже не помню, кто привел. Лет сорок ему, седовласый. Я-то в сорок лет седым не был, хоть и войну прошел. А этот, может, и красится. Ну и пусть себе красится в конце-концов. Так даже лучше выходит. Высокий такой. Пожал мне руку и говорит: «Рукопожатие крепкое у вас, Леонид Ильич!»
Во: рукопожатие крепкое! А не на семьдесят восемь дряхлость, как у мудака Чазова.
И хотя я про себя матом не ругаюсь. Но мудак – это ж не матерное слово. Или матерное. Надо справку отдела науки запросить. Руки все не доходят, черт его раздери. Продовольственная проблема к горлу подступает, тут уж не до мудака. Мудак потом. Ближе к бассейну.
А этого седовласого сорокалетнего я даже по имени запомнил. Саша Проханов его зовут, вот. Писатель он. Пишет там про что-то. Может, и возьмем. Надо с кем-то еще посоветоваться. С Михалковым. Он говорит, правда, как-то долго. Заикается вечно. Как меня увидит, так и начинает заикаться. От волнения, дескать. Хоть я-то не Иосиф Виссарионович, который ему карандаши дарил. Интересно, исписал он карандаш или нет еще? Или в запретном серванте держит, чтобы ни комочка не отвалилось? А может, крысы погрызли? Представляешь себе: приезжает Михалков на казенной «Волге» к себе на дачу, на Николину Гору. Сразу лезет в запретный сервант посмотреть, на месте ли Иосифа Виссарионыча карандаш. А там уже все крысы погрызли! Один ластик остался! Заикайся теперь, не заикайся – трындец всему. Это меня внук Андрюшка научил: вместо «пиздец» говорить «трындец». Какое-то слово переводное и почти что даже не матерное. Но Михалкову-то все равно. Ему что трындец, что пиздец. Был великий карандаш, да весь и погрызли. Просрал карандаш, батенька. Навсегда просрал. Потому что от крыс никакой запретный сервант не помогает. Это если б ты в Днепродзержинске на кузнечном цеху поработал, сразу бы знал. Крысы даже фрезерный станок сожрут, если голодные. А ты-то, заика хренов, только все по Москве и Московской области. Хряпнул коньяку в «Национале», закусил селедочкой в «Метрополе» – и с шофером личным на имение, в Ни-колину Гору. Ну еще по заграницам, конечно. Здесь гим-нюку гребаному равных нет. Как тебе было карандаш сбе-регти! Теперь-то уж только стреляться. Но ты и наградной пистолет, что я тебе на юбилей справил, профукал. На шестьдесят лет я ж тебе, сука – а вот это точно не матерное, собака простая, женского пола, правда, – я тебе этими дряхлыми руками вручил. На твои шестьдесят лет, не мои. Я тебя лет на семь старше, помню, почти точно помню. А потом твой сынуля пистолет в Америку вывез. Продал его там каким-то евреям и на вырученное жил три года. Ему ж кино-то снимать не давали. Да и теперь не дают – кому нужен сын заики советского долговязого? Мне таможенники тогда говорят: «Леонид Ильич, вывез сынок наградное оружие-то». А я им: «А вы чего ж не задержали-то, дурачье?» А они мне: «А он все вашим именем клялся. Дескать, позвоню Леониду Ильичу, он все временно разрешил. Мы и зассали как-то».
Зассали.
Вот до чего дошли советские органы управления.
Я им временно разрешил, так они и зассали.
А если им обратно временно запретить, как Иосиссарионыч?
Что бы там Чазов ни трындел. Я хоть и говорю плохо. И перловка несвежая во рту у меня. Я не заикаюсь. Как некоторые. И до самого бассейна «Москва» заикаться не буду. До ста двадцати.
– Какого числа выборы, Михал Андрейч?
– Двадцать четвертого февраля, Леонид Ильич.
О! «Леонид Ильич». Снова понял. А то забываются кругом, демоны. Временно разрешил.
– Это, значит, какого года?
Вот из-за этого и поговаривают, что Леонид Ильич в полном маразме. А он вообще ни в каком ни в маразме. Он просто хочет, чтобы у козла Суслова тоже мозги ворочались. А не только у Генерального секретаря и Председателя Президиума. А то вишь, скажут: временно разрешил.
– Одна тысяча девятьсот восьмидесятого, Леонид Ильич.
– Это, значит, как почти когда Олимпиада у нас?
– Совершенно верно. У нас. Девятнадцатого июля открытие. Одна тысяча девятьсот восьмидесятого года.
Мог бы сказать и «так точно», но не военный же. Так что пусть будет и «совершенно верно». Устинов с Андроповым вон говорят «так точно», а толку что? Не прибавляется. Даже не знают, что делать, когда Генеральный секретарь в бассейне «Москва» концы отдаст.
А ведь отдаст – что тогда со страной будет.
Так точно.
И Олимпиада эта свалилась нам на голову, будь она неладна. Я, если разобраться, всегда против был. Народ без сапог ходит, так еще и Олимпиаду за три миллиарда рублей. Три миллиарда советских рублей! У меня на цифры память вообще плохая, а тут запомнил. С точностью до нулей. И Никодим, владыка Никодим мне говорил: «Глумцы-акробаты не доведут до добра. Закрывай Олимпиаду, Леонид Ильич».
Но как уже закрывать-то? Поздно. Это сначала Никсон меня втравил. Голову совсем заморочил: вот проведешь международные Игры, имидж Советов исправишь. А какой еще у Советов имидж? Зачем его исправлять? Вон Иосиссарионыч никаких Игр не проводил. А Гитлер, дай бог память, проводил. И? Имидж у нас сломался, тоже мне разбери?
А потом полезли изо всех щелей. Вон тот же Суслов. Проводить, чтобы обязательно проводить. Тогда мы всем докажем и покажем, чего стоит развитой социализм. И летние валенки на соболином меху. А что доказывать-то?.. Эх… Кто слушать-то будет?
И дети мои туда же. Им бы покрасоваться, с иностранцами выпить-погулять. Говорят, давай, давай Олимпиаду, когда еще будет!
Вот вам и Олимпиада. Три миллиарда – и без сапог.
Я в прошлом году на Юрмалу заезжал. Так тамошний первый секретарь, Август Эдуардович, фамилия какая-то короткая, хрен запомнишь, перебрал своего «Рижского бальзаму» – а его, по мне, так и в рот не возьмешь, противный такой, я про бальзам сейчас – да прямо и говорит у меня на плече:
– Знаете, Леонид Ильич, какое самое большое достижение Латвийской компартии за всю ее историю?
Эти прибалты умеют говорить витиевато. Они ж раньше немцами были, пока мы их окончательно не спасли.
Я хотел спросить, какое же именно, но не успел – рот был весь ихней семгой забит. Говорят, что семгу прямо у порта Вентспилса ловят. Но знающие люди из сельхо-зотдела докладывали, что семга-то на самом деле норвежская, на нее латыши-жулики только этикетки клеят. Верю, верю. В глаза Августу Эдуардычу как посмотришь – и не в то поверишь. Еще.
А бальзам я их «Рижский» на дух не переношу. Вот просто вкуса не перевариваю. Это как микстура детская, только грязная, вредная какая-то.
И Август Эдуардович-то продолжил:
– Самое большое достижение, Леонид Ильич, – а еще с акцентом таким противным, будто только что из оккупации и Иосиссарионыч временно разрешил, – что мы на Политбюро пробили, чтобы олимпийская регата не у нас проходила, а в Таллине.
Я даже мыслями так сделать не могу, каким акцентом этот шпротный человек говорит.
Он же пьяный совсем. Прибалтам столько пить нельзя. Он ведь что только сейчас сказал? Что обманули мы Политбюро. И тебя, товарищ Генеральный секретарь, со всем твоим великим подвигом, вокруг пальца обвели. Ведь вы нам олимпийскую регату поручали? Поручали. А почему она теперь не у нас, а в Таллине? А чтобы мы и дальше свои этикетки на норвежскую рыбу клеили. А эстонцы, значит, без сапог. Хотя, может, эстонцы и в сапогах. Они всегда тоже устраиваться умели. Вот мне Суслов рассказывал (или это Никодим был? Нет, Суслов все-таки), что эстонцы в первый же день немецкой оккупации от всех евреев избавились. До единого. Кого убили, а кого фашистам выдали. И как-то это еще назвали красиво, как дорогие духи. Вот «Шанель № 5» помню, а это не помню.
– Михал Андрейч!
– Да, Леонид Ильич!
– А вот когда эстонцы всех евреев фашистам выдали, это как называлось?
– Юденфрай, Леонид Ильич. Но это не только эстонцы, это вообще, если кто где евреев.
– Ладно, ты мне голову-то не морочь. Хорошее слово. Повтори еще раз. Как там, ты говоришь, иденрай?
– Юденфрай, Леонид Ильич.
Красиво, действительно. Но так немецкие духи должны называться, не французские. Типа «Лагерфельд»? Есть такие. Тоже что-то лагерное. Иосиссарионычу понравилось бы. Шутка. Шутка это была, но вслух же такую не скажешь. Никто ж не засмеется. Он-то временно ничего не разрешал. Это вам не Леонид Ильич.
Надо будет канцлеру Шмидту позвонить, спросить. Может, и закупим к Олимпиаде миллион коробков «Юденфрай». То есть «Лагерфельд». Чтобы иностранцев порадовать. Чтоб они женам чего с нашей Олимпиады домой привезли. Все толк будет. Может же и от Олимпиады какой толк получится.
А Августу Эдуардычу этому с его регатой я еще припомню. Он в протоколах-то пусть читает, как я Петю Шелеста прихлопнул. Взял и прихлопнул, никто и не пукнул. Шпротнику этому через год, говорят, шестьдесят пять? Ну и хорошо. Проводим на заслуженный отдых. Радиоприемник «Спидолу» подарим. Чтобы «голоса» слушал, она берет. И ящик «Рижского бальзама». А то и два ящика. Такой запах будет, что к нему до смерти самой никто близко не подойдет.
А в Латвии, мне сказали, уже сорок процентов русских? Вот мы им русского первого секретаря и сосватаем. Хоть Суслова. Который тут сейчас сидит передо мной и улыбается, как будто мы побеждаем. А мы в жопе полнейшей, товарищ Суслов. На восемь целых семь десятых отстаем. Председатель Президиума Верховного Совета СССР проигрывает в одномандатном округе вождю диссидентов академику Сахарову. Вообще не попадает Председатель в свой Верховный Совет. И где проигрывает – в Москве, в столице! А Сахаров – проходит. И что тогда скажет весь мир? Что зря Ленька Брежнев из Днепродзержинска уехал, лучше б на Днепровском заводе кузнечным цехом руководил.
А еще лучше – замглавного технолога. К сорока годам – трехкомнатная, к пятидесяти – семь соток. И никаких проблем. Десять ящиков водки, хватит на первую половину отпуска.
Правда, Суслов никакой не русский по сути. Он чеченец. Не смейтесь. Сейчас расскажу. Сам себе расскажу.
– Михал Андрейч, а сегодня какое число?
– Двенадцатое декабря.
Опять без «Леонида Ильича». Ну да ладно. Устал. Я устал.
А то не помню, что двенадцатое декабря. Вчера ж одиннадцатое было – Витин день рождения. Я ей цветов подарил. Охранники привезли. И палехскую шкатулку. Поцарапанную малость, но ничего. Старую, зато настоящую. Мне первый секретарь ивановский лет пять как прислал. А она не плакала. Жена-то не плакала. В первый раз за всю жизнь ни слезинки. Вот ведь как бывает.
– Значит, осталось два месяца?
– Два месяца. Чуть больше – два и две недели.
– И восемь с половиной сейчас?
– Восемь целых семь десятых, Леонид Ильич.
– А там еще Новый год и все такое. Все наши в запой уйдут. Значит, если так, Леонид Ильич Брежнев, первое лицо партии и государства, пролетает мимо Верховного Совета, а туда влетает прямо академик Сахаров? И все это происходит в городе Москве? Где заседает сам Верховный Совет, ЦК и все прочие остальные органы всесоюзной власти? Так?
Я не кричал. Куда мне кричать с моей дряхлостью? Семьдесят восемь, проклятый Чазов. Я просто хотел, чтобы Суслов нашел, че ответить.
А он замолчал. Потому что подумал, что я закричал. И не смог сразу справиться с волнением, хоть и кавказец.
Суслов же сызмальства был какой-то Алханов или Гелаев. Он в Чечне родился. В Чечено-Ингушетии, она так, кажется, называется. Иосиф Виссарионович так окрестил.
До войны еще Суслов там комсомол возглавлял. А перед самой войной, в сороковом, кажется, стал первым секретарем Грозненского горкома. Партии. И, говорят, потом немцам очень помогал. Что-то типа «лагерфельда» с иденраем они там устраивали. Нормально никто не знает, но слухи ходят. И был он тогда никакой не Михал Андрейч, а вроде типа Ваха Русланович или нечто что-то похожее.
Хотя откуда на Кавказе евреи, если подумать? Но с другой стороны. Могли там быть евреи, и много. А потом пришли немцы и устроили вместе с Сусловым свой «лагерфельд». Так ведь тоже могло быть?
Черт его разберет. На архивы времени уже никакого не остается, даром что до ста двадцати.
А в сорок четвертом – это я точно знаю, мне и Андропов по секрету докладывал – Ваха Русланович проспал депортацию. Вот ей-ей – начисто проспал. Заснул в Грозном где-то на чердаке. Надо было к пяти утра явиться на сборный пункт. Чтобы в эшелон – и дальше до Казахстана. А он не явился. И ничего ему за это не сделалось.
Стал он скоро Михаил Андреичем Сусловым и перебрался в самую Москву. Когда я еще молдаван ленивых песочил. А говорят еще, что евреев трогать нельзя. Врут, наверное. Вот у меня жена типа вроде еврейка. Я ее и не трогаю. Как говорят, так и делаю. Товарищ Генеральный секретарь и Председатель половины земного шара.
– Леонид Ильич, надо честно признать, посмотреть правде в глаза. В Москве разрыв нарастает!
Ты ж, собачий сын, идеолог, член Политбюро! А зачем ты мне слово «Москва» говоришь? Мы же в Москве с Сахаровым и боремся. А в других местах-то и не боремся. Так ваши дурацкие одномандатные округа устроены. В Москве нарастает – а что, есть где-то, где не нарастает? Где Леонид Ильич обходит академика Сахарова и прямо себе въезжает в Верховный Совет, на свое обычное председательское?
– А не в Москве что – не нарастает?
– По СССР рейтинг в среднем восемьдесят два на четырнадцать в вашу пользу. Только в Москве ситуация экстремальная. Уникальная, я бы сказал.
Вообще, восемьдесят два плюс четырнадцать равно девяноста шести. Ну и пусть. Пусть будет. Мне-то что.
– Почему? Мы ж Москве всех больше даем. Вон в ГУМ зайди – и в универмаг какой-нибудь в Костроме.
Давненько не был ни там, ни там. Надо б исправить. Черт, опять забыл – как звали того седовласого? Который писатель?
– В Москве переизбыток интеллигенции. Она к материальным благам развитого социализма достаточно адаптирована. И вся как один за Андрея Дмитриевича.
– За кого?
Да, нельзя было так резко, по имени-отчеству чужого человека, да еще как бы врага.
– Андрей Дмитриевич – это Сахарова так зовут.
– Академика Сахарова?
– Академика, Леонид Ильич.
Помялся-перемялся. А то не академика? А кого? Рас-топщика готовален, что ли? Ну и чего мяться-то, Руслан Гелаевич, или как тебя там?
В конце сороковых у Иосифа Виссарионовича появилась любовница. Чеченка. Не первой свежести, под полтинник или даже немного за. Но – глаз не оторвешь. Волосы черные, как трибуна Мавзолея. А она разве черная? Но дело не в этом. Когда надо, то и черная, очень даже бывает. Я ее – любовницу, не трибуну – один раз видел. И глаза оторвал, чтоб мне их самому не оторвали. Вот она-то и притащила откуда-то Ваху Аслановича. И Сусловым его сделала. Усыновил его какой-то партраб районного масштаба. А Иосиссарионыч как раз про евреев что-то удумал, тут наш Суслов и пригодился. Стал референтом по еврейскому вопросу. По части этого юденрата или как его там. А в пятьдесят втором – уже замзав идеологическим отделом. Дальше Хрущу помог от старой гвардии избавиться. И стал завотделом. Секретарем ЦК. А там и нам уже помог. На октябрьском Пленуме доклад делал. Теперь уж никуда от него не денешься. Хотя скользкий. «Где чеченец родился, там три еврея заплакали» – это мне еще генеральный конструктор Курчатов говорил. Или генеральный конструктор Королев у нас был? Вот он, должно быть, и говорил. А откуда я его знал? По должности. Всех подробностей не припомню, пока лишь не взойду на кромку бассейна этого – «Москва».
Но точно знаю, что это я запустил первый спутник и место для космодрома на Байконуре лично выбрал. Потому что слово «Байконур» мне нравилось. Как имя казахской девушки. Четырнадцати лет. Так у меня в воспоминаниях написано, и с места уже не сдвинуть. Не фрезеровальный станок.
– А как же наши работяги? Верные, преданные члены партии?
Слово «преданные» никогда не любил. То ли нам преданные, то ли нами. Или и то и другое. Тоже мне нашелся профессор языкознания.
– Рабочий электорат…
Что еще за хреноплетень!
– Рабочий избиратель, Леонид Ильич, излишне пассивен. На результаты выборов в Верховный Совет СССР не ориентируется. Думает, все равно Брежнев будет, так чего ходить. На избирательные участки, в смысле, я имею в виду, ходить.
– А объяснить им что – невозможно? Еще два месяца осталось. Первая программа там, вторая.
– На первой и второй программах упоминание имени Сахарова запрещено. А раз нет имени – нет и проблемы. Сами понимаете, Леонид Ильич.
Ну конечно. Теперь хитрая жидочеченская сволочь сделает вид, что это я сам во всем виноват. Это ж я сказал Лапину на Главном телевидении Сахарова от греха подальше не поминать. А Суслов проклятый здесь и вовсе ни при чем, ехиднина башка.
– К тому же, Леонид Ильич, в среде рабочего класса 17 немало лимитчиков, людей без прописки. Они нам электорально вообще никак не полезны, как бы ни прискорбно это звучало.
Я понял, что сейчас захочу встать с кресла. Торжественно так захочу, как в лучшие времена.
– Значит, политика Совета Министров по кадровому замещению провалилась?!
Суслов вытянул губы в длинную гармошку. Они всегда так делают, когда не могут ни засмеяться, ни промолчать.
Да, а я Косыгину всегда говорил. Сейчас-то он помирает. То ли косой ноги себе отрезал, то ли в чью-то лопасть винта попал. Есть вместо него Колька Тихонов. Но с того что возьмешь? Колька и Колька.
Встать с кресла. Легко сказать. Когда ноги не ходят и ни на одну толком не обопрешься. Даже руку не знаешь какую вперед выбрасывать.
А у липкого Суслова помощи просить, ладонь старческую тянуть – себя не уважать.
Семьдесят восемь.
– Михал Андрейч, а ведь штаб предвыборный ты у нас возглавляешь?
Ну как выкрутится.
– Формально у нас штаба нет вообще, Леонид Ильич. Есть организационно-предвыборная группа, ОПГ, совместная, Московского горкома и обкома КПСС. И возглавляете ее лично вы, Леонид Ильич.
– Лично я?
– Лично вы. По решению Политбюро.
Дотрындишься у меня, сокол горный.
– По вашему решению, утвержденному Политбюро.
Выкрутился. Да еще когда! Я ведь ни к горкому Московскому, ни к обкому ни двух копеек отношения не имею, так они меня начальником записали. Мол, если что, с Генерального секретаря и весь спрос. Как будто заранее знали, что Сахаров победит. Хотя с самого начала было три с половиной процента в мою пользу. В нашу пользу.
А может, это измена? Если чувак – нехорошее слово! – в войну на немцев работал?! Он же на все способен. Может, жена Сахарова ему валютных бонов из Америки навезла?
Я себе тут даже засмеялся, а Суслову чуть улыбнулся. Не заслужил.
– Но Сахаров где-то же выступает? Это же можно посмотреть. У нас же и видеомагнитофон есть.
Хорошая игрушка. С внуком Андрюшкой тут какую-то «Эммануэль» смотрели: я заснул, а он досмотрел до конца.
– Хочу доложить, Леонид Ильич, – теперь уж по-военному, понял подвох, сука, – через пять минут по третьей программе Сахаров как раз выступает. Интервью в передаче Познера. Если у вас есть время и желание, можем посмотреть.
Нет у нас больше, товарищ Суслов, ни времени, ни желаний. Но посмотреть – посмотрим обязательно. Вы будете смеяться, но я Познера-то этого помню. Он у меня два интервью брал. Перед Хельсинки и после Хельсинки. Его Лапин привел. И строит этот Познер весь из себя такого независимого. И пиджак у него шерстяной, полосатый, плотный, как из Парижа. А на самом деле этот Познер – холуй из холуев, видно ж. Я чуть слюной не поперхнулся, особенно после Хельсинки.
Лапин говорит, что Познер, опять же, из евреев, но одновременно как бы еще из Франции. Так в наше время бывает. Гитлер же во Франции не полный «лагерфельд» делал. Хотя Познеру не помешало б. Посмотрим, как он Сахарову облизывать будет. А Лапин что? Потерпит? А ЦК? Как дети малые, ей-богу.
Постойте, постойте. А сколько же им всем будет во время бассейна «Москва»? Вот мне – сто двадцать. А Саше Проханову? Сейчас сорок. До моих ста двадцати осталось сорок семь. Значит, восемьдесят семь? Не, не дотянет. Я вижу. Он одутловатый. У него с почками точно не в порядке. Такие бойцы больше семидесяти не живут. А могут и вовсе лет в шестьдесят концы отдать. Нет, Саша, нет.
Кто же тогда писать будет? Как они все обо мне жалеют?
Недаром говорил мне Никодим: «Леонид Ильич, убери ты этот бассейн, построй снова храм!» Но храм-то – он тоже несчастливый был. Я это точно в какой-то энциклопедии вычитал.
Хотя ни одной энциклопедии не читал, видит. Кто там видит?
А в бассейне еще никто вообще не утонул. Там первый я умру.