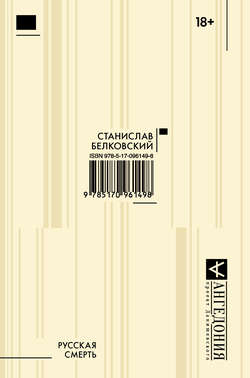Читать книгу Русская смерть (сборник) - Станислав Белковский - Страница 4
Зюльт. Рассказ в одном действии
Клиническая смерть
ОглавлениеКлиническая смерть случается не у каждого. Но у меня, у меня-то – как раз была.
А как происходит клиническая смерть? Сейчас расскажу.
Это так.
Заходишь в холщовой рубахе и каких-то штанах войлочных. В комнату. Квадратную. Светлую-светлую. Как небо над Ала-Тоо.
И там посредине – стол. Тоже квадратный. Зеленый и деревянный. А за столом – Никита Сергеич Хрущев.
– Никита Сергеич, ты-то что здесь? – говоришь радостно и удивляешься: почему так просто с начальником на «ты» перешел. Как будто Киссинджер или Никсон какой.
– Ты не бойся, Леонид Ильич, – отвечает Никита, словно у меня поджилки трясутся. А настроение у меня как раз хорошее. Даже очень. Разве что смеяться не хочется. Громко, в голос. То есть смеяться-то хочется, и громко, и в голос, но чтобы в такой светлой комнате… Неудобно.
– Ты, Леонид Ильич, только не присаживайся, пока не расскажешь, – продолжает Никита.
– А что рассказывать, Никита Сергеич?
– Как вы меня убить пытались.
– Да кто ж мы-то?
– Да вы с Подгорным и Семичастным. Они-то все уже сознались, теперь твоя очередь.
И говорит тихо, по-доброму, ласково. А не орет, как при жизни всегда орал.
– Не верю, – отвечаю я, – чтоб Подгорный и Семичастный на себя такую напраслину возвели. Разве ж их пытали? Это все Петька Шелест клевещет. За то, что я его снял. А как было не снять? Вы знаете, что он по Украине спецпоездом разъезжал, так там у него отдельный вагон для коровы был. И ездила всегда одна и та же корова, от которой он только молоко и пил. Представляете – корова целый вагон занимала! А люди еще голодомор помнили. И.
– Петька тот еще жук, но здесь ни при делах. Говори, говори.
– Про убийство?
– Про убийство.
– Да как же тебя можно было убить? Тормоза подпилить или самолет протаранить.
– Нет. Ты знаешь, как. Я не шучу: Подгорный и Семичастный уже признались. Письменно. А я тебя всего устно прошу.
– А ты мне скажи, что они там, и я повторю.
– Слово в слово?
– Слово в слово.
– Зуб коммуниста даешь?
– Зуб коммуниста.
– Вы отравить меня хотели. Смертельный раствор водки с тазепамом. Водка «Зверская» от горно-алтайских товарищей. Принимаешь сто грамм – и тяжелый инсульт. Хуже, чем у Фролки Козлова. Ты – исполняющий обязанности. Ну и пошло, поехало.
Почему он не орет? Почему?
– А как бы мы тебя, Никита Сергеич, выпить заставили?
– Через охрану. Там Семичастный ситуацию держал.
– И что ты один бы стал пить?
– Вы так придумали. Попробовать водку от горноалтайских товарищей. Чистейшую, родниковую. Специальная бутылка, только для товарища Хрущева.
– А чего же не тормоза, не самолет?
– Семичастный сказал: водка с тазепамом – самое простое.
– Ну а Подгорный-то нам зачем? Я все придумал, Семичастный исполнил. Подгорный зачем?
– А ты испугался, братец. Подельника решил взять. И взял. А потом его на Верховный Совет вместо Анастаса посадил.
– Думаете, не стоило?
– Мы ж на «ты», как Никсон с Киссинджером. Думаю, не стоило. Но это скажут Суслов с Андроповым.
– Почему они?
– Суслов – генеральным секретарем идет, Андропов – председателем президиума. Для Подгорного места нет уже. Ты разве не знаешь?
– Нет еще. Я же к вам… то есть к тебе торопился. Коридор слишком длинный. Узкий. И холодно в нем. Не топят. В такой холодине никакая радиоточка не сработает.
– Так ты устно все подтвердил?
– Все подтвердил.
– Хорошо. Я тебя надолго не задержу. Пойдем сейчас сходим к товарищу Сталину, и все насовсем.
– Куда?
– К товарищу Сталину. Иосифу Виссарионычу. В комнату 101.
– А зачем?
– Чтобы он решил. Что с тобой делать, дитя неразумное.
– Разве он решает?
– Иосиф Виссарионыч решает. Только что утвердил Суслова на генерального секретаря, Андропова – на председателя президиума. И тебя попросил привести. Я и привел.
Хорошее настроение сменилось отчего-то на не очень.
– Суслов же старый, и чеченец к тому же.
– Не говори плохих слов. Про тебя же я не говорю. Михаил Андреевич Суслов чеченцем быть не может. Так товарищ Сталин сказал.
И комната стала уже совсем светлою, что даже невыносимо. И глаза заслезились, как на фильме «Белорусский вокзал».
Вот ты и просыпаешься. И там – три человека.
Мужичок в белом – это Чазов, понятно, по очертаниям.
Девочка в белом – медсестра, она капельницу ставит.
А вот же сидит мужик в зимнем пальто и шапке. Прямо у постели больного в такой одежде сидит! Как это может быть? Как его пропустили? Охрана-то где? Бациллы одни, бактерии зимние, погибель кругом.
А теперь вижу, когда меньше сливается и расплывается, что человек в белом – не Чазов будет, а профессор Лившиц, молодой, который невропатолог. Чазова, стало быть, сейчас нету. Он не круглосуточно дежурит при клинической смерти генерального секретаря, потому что ленивый.
Сестра – Таня, как и полагается.
А мужик в пальто – и не в пальто совсем. Это ряса. Значит, мужик – поп. Священник, как это в энциклопедии называется. Священнослужитель, если по-полному. Длинно, зато красиво. И шапка на нем действительная поповская, но не зимняя. Легкая, простая, с крестом на самом верху, у бортика. Они мне настоящего попа привели. Того только, которого и не хватало.
А поп не должен снимать свою крестную шапку, когда входит к Генеральному секретарю?
Ну, профессора Лившица я знаю, Таню тоже, здороваться смысла нет. А со священнослужителем как?
– Леонид Ильич, – замялся Лившиц, – это к Вам священник… э-э-э… товарищ Никодим.
Он не знал, как правильно называть попа.
Я чуть не улыбнулся.
И повернувшись к попу:
– А Вас, Никодим, как величать по имени-отчеству?
– От рождения я Борис Георгиевич, – обаятельно заиграл лицом священнослужитель. Но в Церкви я – митрополит Никодим. И в паспорте себе такое же имя поставил. Так что называйте, если можете, – владыка Никодим.
– Владыка Никодим?
– Да, владыка. Так полагается. Я митрополит, постоянный член Священного синода. А «владыка» с епископа начинается.
Когда-то Леонид Ильич все это помнил. Но давнодавно позабыл.
Да и как может владыка начинаться с епископа. Это что-то не то.
«Владыка» – тоже мне. Сами назовут себя, так потом и не расхлебают. Вот я, Ленька, настоящий владыка. Над половиной мира, не меньше. И если. Нет, столицу Лаоса сейчас никак не вспомню. Но если в Ханое меня поминают, в Луанде – аукается.
Хотя – вот ведь, а еще говорят, память короткая – вспомнил и самого владыку. Они на 60 лет Октября с патриархом Пименом поздравлять приходили. Вместе. Только постарел что-то наш Никодим. Грузный стал совершенно, и мешки под глазами страшные. Чудовищные, как перезревшие сливы. У нас слива росла рядом с голубятней, на проспекте Ленина. Потом срубили ее, чтобы детскую площадку обустроить. Хотел спросить у профессора Лившица, знает ли он анекдот про «проспект Лёнина». Единственный днепродзержинский анекдот. Не стал. Человек не тот.
Не засмеется, и будет печально.
Или засмеется неискренне, и появится стыдно.
– Леонид Ильич, – отозвался из глубины раздвоения белый Лившиц, – мы с Танечкой отойдем ненадолго. Вам бы надо с владыкой Никодимом немного переговорить. Правда?
Усвоил, как того звать-величать. 39 лет, а уже профессор. Восходящая звезда нервных болезней, как говорит Чазов. Но что 39? Сахаров в 32 уже академиком был. Действительным членом. А я в 39, потому как настоящего генерал-майора присвоили, нес свое знамя на Параде Победы. И неизвестно еще, что лучше. Ибо было мне – 38.
Говорят, Суслов хлопочет, чтоб его сыну генерала дали. Револию Михайловичу. Который, небось, и не знает, что не случись вся та заварушка с евреями, быть ему Исою Сулимовичем, где-нибудь в селении Долбай-Юрт.
Хрен им. Пусть Иса Сулимович, он же Револий Михалыч, в своем их Орангутанге повоюет. Там, откуда письмо прислали. А по письму мы его генерал-майором и сделаем. Не жадные ж.
Они удалились. Можно было б подумать проще, но не так уж зато красиво.
– Ну, скажите, владыка Никодим, что это тут со мной приключилось?
Я только заметил, что даже ворочаться мне больно. И все это происходит не на даче «Заречье-6». Нет. А в больнице нашей. В ЦКБ. Но не в такой палате, как обычно, а в другой какой-то. С кучей всяческих проводов и датчиков. И кнопкой – красной, огромной, как Солнце над Ореандой в лунную ночь. Должно быть, чтобы Чазова вызывать. Или Лившица. И решать: идти мне к Иосиссарионычу в комнату 101 или можно потом.
И окна здесь замороженные, как вся Россия. Как весь Советский Союз без южных республик. Без Туркмении там, Молдавии, Грузии. Я бы сказал, как минтай в «Океане», но неискренне получилось бы. Какой минтай, какой «Океан»!
– Клиническая смерть, Леонид Ильич. Пять дней.
Это отвечал Никодим.
– Клиническая смерть? Да, интересно говоришь, владыка.
Тут-то я заметил, что язык еле ворочается. Мой язык, понятно. Никодим может и не разбирать, что говорю. Из вежливости кивает только. Или не кивает. И не из вежливости.
– А я вот думал, клиническая – это когда человек в больнице помирает, то есть в клинике. А если принять поллитру, а лучше ноль семьдесят пять, и примоститься на лавочке в сквере, особенно, когда февраль, а дело – Курск или Днепродзержинск, – выговаривать-то «Днепродзержинск» ясно уже не получается, владыка еще чай, обидеться может – и под утро околел, потому что проходил участковый и подумал – вот, алкашня всякая по скверам валяется, и бабушка еще в шесть утра проходила и последний трояк из кармана вытащила, а после поллитры и незаметно, а после ноль семиста пятидесяти вообще ничего не чувствуешь – вот тогда смерть обычная, неклиническая. Не так?
Поп не успел ответить. А может и не хотел он отвечать, священнослужитель этот.
– Народ-то наш русский все больше обычную смерть предпочитает. Простую. А мы ему все клиническую навязываем. Вот такое ЦКБ отгрохали!
Попробовал поднять руки. Или, как любят говорить в народе, всплеснуть руками. Тут только и понял, как все болит. Как после ранения. Или когда из воды вытаскивали, на Малой Земле.
Много оно всего в жизни случится, пока до ЦКБ доедешь.
– А почему Патриарх не приехал?
Действительно. Я же первое лицо. И церковь должна присылать ко мне свое первое лицо. На кремлевских приемах Патриарх всегда тут как тут. И от правильной рюмочки никогда не откажется, и от двух-трех. Пимен, как и позволено. То есть, я хотел подумать, Пимен, как и положен.
– Святейший пять дней подряд молился за Вас, Леонид Ильич. Почти круглосуточно. 16 часов в день. В Патриаршем Соборе Богоявления в Елохове. Изнемог малость. Сейчас пребывает в Переделкине. Как Вы спрашивали.
Так-так.
Елоховскую я никогда не любил. Там меня после войны бабки шуганули. На Москве здесь, после войны, в сорок пятом. Я в парадном генеральском кителе пришел, а они мне – что ходишь в одежде бесовской, мол, в Божий храм.
Это генеральский-то мундир – им бесовское облачение.
А в Переделкине раньше писатели жили. Когда Пастернак помер, я помню, Никита меня послал венок отвозить. От Президиума Верховного Совета. Ну и я так же. Когда Ахматова. Но это уже под Питером, на дачах каких-то, где комаров полно. Подгорного отправил. Потому что писатели и пуще того поэты – это не номенклатура ЦК. Это Верховный Совет. А в таких вещах соблюдать надо, иначе все совсем разболтается.
И что, выходит, теперь там священнослужители? А поэтов куда девали?
– А я думал, владыка, Патриарх на Кропоткинской живет. В Чистом переулке. Я там бывал, подарки отвозили. А в Переделкине – писатели свежим воздухом балуются. Теперь не так?
– Так, Леонид Ильич. Городская резиденция у Патриарха в Чистом. В Переделкине – загородная.
Во. Живут попы лучше членов Политбюро, а еще жалуются. Что нет свободы религии или еще чего-то.
– И у нас же в Кремле церкви есть. Полно. Чего было не помолиться? Почему в Елоховской решили? Ты вообще, владыка, как думаешь, Бог откуда ближе: из Кремля или с Бауманской?
Я помнил, что Елоховская – это Бауманская, и даже гордился, хотя не был там уже тридцать с лишком лет, с тех пор, как бабки безумные придумали мне про бесовское облачение.
Облачение! Это – слово.
– Расстояние везде одинаковое, Леонид Ильич.
Смеяться он даже и не пробовал, хитрый перец.
– Просто в Кремле соборы небольшие, тесные. Успенский еще ничего, а Архангельский, Благовещенский – там больших мероприятий не проведешь. А мы же всех архиереев собрали, чтоб молились за Ваше выздоровление. В Елоховской легко всех архиереев уместить. Вот почему.
– И что же, все ваши по пять дней отстояли?
– Чаще сменами по два-три. Но Святейший Патриарх Пимен отстоял все пять дней.
Смешно как говорит. «Отстоял пять дней». Словно время отстоять можно. Место – можно, наверное. Как Малую Землю или еще чего.
Болит-то, Господи, как все болит. Я бы к Ахматовой Анастаса отправил, но он уже к тому времени на пенсию вышел. Вот Подгорный с венком и поехал.
– Ну, ты, владыка, Патриарху Пимену привет передавай. Мы ведь за него тоже Богу молимся. Хотя и в переносном смысле. В прямом коммунисты молиться не могут.
– Отчего же не могут? Давайте поставим часовню у Вас на даче, в Заречье. Вам и удобно будет. Дважды в сутки – утром и вечером.
Он смеется, что ли? Издевается над моей клинической смертью?
– Нет, владыка Никодим, – здесь надо с именем, чтоб напористей, – партия не позволит. У меня большая власть в партии, но такие фортели, как Никита, я выкидывать не могу. Политбюро не согласится. Да и не хочу, по правде сказать. Снимут еще к едреней фене. Скажут: ты, Ленька, и так на тот свет собирался, так что уже веди себя поскромнее.
Вроде бодрость возвращается к генеральному секретарю.
– Часовню.
Да, часовню было бы прикольно. Как Андрюшка б сказал. Взять современного архитектора. Типа Посохина, который Калининский. И что-нибудь такое забацать. Чтобы с дороги видно.
Я люблю молодых архитекторов. Что-то такое в них есть.
А Патриарх почему называется Святейшим? Я слышал, он сидел до войны. И в войну сидел. Его Иосиссарионыч только в 43-м освободил. Но мало ли кто когда где сидел. У нас по пьяни полстраны оттрубило, и что – всех теперь святейшими называть?
– Владыка, а ты вот скажи мне: почему Патриарх – Святейший? Он действительно святой совсем?
Нет, не работает все-таки язык человеческий. Точно случилось чего, чего не говорят.
– Ну, это титул такой, Леонид Ильич. Так принято называть. Про святость же один Господь ведает. Не нам, недостойным, судить.
Однако ж у вас хромает там, в церкви, дисциплинкато. Ты же кто-то вроде заместителя. Тебя спрашивают: твой начальник соответствует званию Святейшего? А ты, вместо того чтобы полностью и окончательно подтвердить, что-то там умствовать начинаешь: дескать, то Святейший, а то не очень, и еще про Господа Бога.
Хороши б мы были, если б Картер Суслова спросил: Суслов, а Брежнев действительно и полностью Генеральный секретарь? А Суслов пошел бы чесать, мол, типа, кто его знает, может, полный, может, неполный, и вообще только производительные силы общества ответить могут. Кто бы нас тогда уважал?
Не продумано у Вас как-то, товарищ Никодим.
– И ты, владыка, правда считаешь, что этот самый Бог есть? Существует? И он еще там чего-то знает?
Вон у нас все Политбюро, вместе взятое, не знает, будет ли атомная война. А ты – про Бога!
А у канадцев выиграем чемпионат мира или не выиграем, а еще больше Олимпиаду в Монреале – это тоже к Богу в рай?
Как тогда можно страной управлять?
– Леонид Ильич, даже если Бога и нет, человек не может без него жить. Это как сиделка у постели больного. Не можешь долго дозваться Бога – и сразу умирать начинаешь.
Интересно. Оригинально, как молодежь говорит. Сейчас все большие попы так думают? Я когда тонул у Новороссийска, тоже Бога дозваться не мог? Но ведь дозвался же.
Жена-то моя верит. Или делает вид, что верит. Виктория Пинхасовна Гольдшмидт. Рассказывала мне много. Что якобы все апостолы под старость лет собрались в Риме, и император Нерон велел повесить их вниз головами.
А император Нерон – это тебе не император Бокасса.
Давно, правда, ничего уже не рассказывает. Замкнулась как-то. И по палехской шкатулке даже не плачет. А я шкатулку от ивановского первого секретаря пять лет как получил, так в комоде в кабинете и держал.
Нет. Так быть не может. Сейчас же 76-й, когда клиническая смерть. А шкатулку я подарил – 11 декабря 1979 года. Когда мы с Сусловым решали, как нам куда академика Сахарова девать. Или за день до того, как решали.
Когда я вспомнил остров Зюльт, и поехал к Марии, и это повернуло судьбу человечества.
Запутался я с этим временем. И все мы запутались.
– Помните, владыка, анекдот про время?..
Почему-то, когда про время, меня всегда на «вы» пробивает. Сто процентов из ста.
– Да я не очень по части анекдотов, Леонид Ильич.
А чего ж тогда приехал? Разве не генерального секретаря развлекать-веселить?
– Сидит мужик в буфете Белорусского вокзала. Выпивает. Много выпил уже. Вдруг радиоточка срабатывает. В Москве – пятнадцать часов, в Свердловске – шестнадцать, в Тюмени – семнадцать, в Хабаровске – двадцать два, во Владивостоке – двадцать три, В Петропавловске-Камчатском – полночь. Мужик смотрит так внимательно на радиоточку и говорит: ну страна, ну бардак!
И митрополит Никодим громко захохотал! Нет, не тихо, не скромненько. Во весь рот. И я увидел зубы, все больше желтые и гнилые, как болты крепленые на застежках старого паровоза!
Вот уж не ожидал я, что владыка над бородатым анекдотом советским так ржать будет!
А выглядит-то плохо, плохо? Сливы под глазами все наливистей. Морщины, как трещины на ленинском саркофаге. Сколько ни замазывай, ничего не исправишь. И весит почти как я, килограмм сто двадцать, не меньше. Живот такой, что даже рясой не скроешь.
– А ты, владыка, с какого года будешь?
Тут-то и подвисло маленечко. Я заметил, что ему такой вопрос часто задавали. И он никак не любил отвечать.
Минуты полторы прошло, если не две.
– Двадцать девятого, Леонид Ильич.
Без этого нашего крестьянского «с».
Я не сразу даже и понял. Какого еще двадцать девятого?
– Так тебе сорок семь лет, что ли?
И владыкой не помянул, так удивлен был, до самой красной кнопки, что прямо над головой.
– Сорок шесть, Леонид Ильич.
А почему сорок шесть? Это уж совсем какие-то бриллианты всмятку образовались.
– Я же октябрьский, а теперь у нас февраль будет.
Отвечал Никодим. Словно старуха, что гоняла меня от Елоховской в следующие дни после самой войны.
И февраля не будет у нас. Потому что он уже есть. А что есть – того больше не будет. Я хоть и землеустроитель простой, и Днепровский машиностроительный по партийной линии понарошку закончил, но что-то и я знаю. Недаром уже столько времени сижу генеральным секретарем, и целых пять дней весь народ православный, весь люд, весь мир, все христианство молились про меня, чтобы выжил.
Пять дней! Этот ваш Господь мир создал за шесть, а – почти столько же. И все вы.
Но в сорок шесть, и ни в сорок семь, ни в шестьдесят так же я так не выглядел. Тут и почки, и печень, и селезенка. Он что, поддает здорово? Да не похоже. Другое что-то.
– Я вот подумал: может, владыка, пообследоваться тебе. В ЦКБ хорошо. И на Грановского у нас неплохо. А у церкви вашей есть своя клиника?
– Нет, Леонид Ильич, нету. Патриарх на Мичуринском лечится. А мы все – как придется.
Разве же Мичуринский уже построили? Я так еще не умер, а все-таки построили.
Как придется. Я в начале тридцатых с такими фельдшерами знался. Шприцы гнутые, бинты все в коровьем на возе. Вату словно обоссал кто-то. Простите, владыка, за плохое выражение. Я же вслух его не скажу. И не просто так, а язык потому что совсем не ворочается.
Вот это и есть как придется. А не так как у вас как придется.
– Ну, так я похлопочу, чтоб вас к ЦКБ приписали. Ты мне список составь. Согласуй только с начальником, и составь. Человек 5-6, не больше. А то никакого ЦКБ не напасешься.
Или никакой ЦКБ? Никогда я толком не знал этого проклятущего русского языка. Даже по-украински много слов знаю. Но по-русски что-то не так. Может, и хорошо, что язык не ворочается.
Хотя бы пока, что называется, временно разрешили. Отдохнет язык от клинической смерти, там и поговорим. Над парами бассейна «Москва». Хотя его еще не придумал, а в 79-м только решил. С памятью-то после такой человеческой смерти тоже не все слава Богу бывает.
Не дав ответить, я все-таки продолжал.
– Неважно ты выглядишь, владыка Никодим. Как будто болеешь чем. Тебе никто не говорил?
Здесь уж поп не замешкался.
– Диабет, Леонид Ильич. И полтора инфаркта уже было.
Полтора инфаркта не бывает. Но не переспрошу, а то сил уже нет. Это он, видать, так шутит, по-священному. Над своим сердцем смеется, и не страшно ему.
– А чего ж Вас, владыка, к больному Брежневу-то прислали? Чтобы показать, что еще больнее бывает? В сорок шесть-то лет.
Вы! Шутка это или не шутка, уже неважно. Я ведь главный человек в полумире. И когда в Гаване Фидель, обрезав сигару, меня вспоминает, в непальских горах – эхо. Вот какие слова помню, хоть и клиническая смерть. Странно, что Чазов пропал. Я вот уж полчаса, как очнулся, а он все не является. Разобраться надо будет. Можем и молодого Лившица на его место поставить. В смысле, не просто на место поставить, а на чазовское поставить. Лившиц ласковый. А незаменимых нет у нас, это давно известно.
Хотя тогда все скажут, что вот, дескать, у Леньки жена еврейка, и потому… А могут вообще придумать, что Лившиц – мой родственник. А мне такие придумки зачем? Мне и Виктории Пинхасовны Гиршфельд на всю жизнь хватило.
Вот ведь, выжил.
– Меня, Леонид Ильич, попросили Вас исповедовать.
Исповедь. Я давно из юности ушел, но про исповедь помню. Бабушку исповедовали перед смертью, под Екатеринославом, в деревне. Она мне еще тогда про бричку жидовскую рассказала. Говорит, мол, если бричку такую увидишь, беги сразу в хату, иначе жиды, они схватят и кровь твою выпьют. Как вампиры какие или там вовкулаки. Она и не знала, что потом ее правнук евреем будет. Юрка, я имею в виду. Но вот когда жиды на кремлевских приемах целуются, это все ж получше, чем мутанты. Жиды не такие усатые, и больше на женщин похожи, чем жена академика. Новая жена академика! Это какая же старая-то была!
Стоп! А кто же мог попросить меня исповедовать? Вариантов три. Политбюро. Нет, отпадает. Они про это ничего не знают. Патриарх. Этот мог. Но тогда бы сам приехал. Исповедь – это ведь когда всякие тайны тебе рассказывают, а ты узнаешь. Пимен бы заместителя на такое дело не прислал. Я его все-таки знаю не один год. Отдохнул бы немного в своем Переделкине – и приперся.
Значит, жена моя, Витя. Она же говорит, что верующая. Мне нельзя, ей можно. Вот до чего мы женское равноправие довели. А нас еще и ругают.
– Ты, митрополит, скажи, исповедуют же прямо перед смертью. Вы уже меня заживо хороните. Я тут оклемываюсь, а вы мне перед смертью. А кто ответит советскому народу, что сделали с Леней Брежневым?
Нет, твердо и жестко говорить сейчас не могу. Никогда особо не мог, но нынче – особенно. Как-то.
– Исповедуют, чтобы полегчало, Леонид Ильич. Я хороший исповедник. Расскажете старую историю, и полегчает.
– Какую еще старую историю? Я историю КПСС знаю. Но она не старая, молодая еще.
Соврал. Немолодая. А историю знаю, потому что сам видел. Глазами. Вот как сейчас владыку этого несчастного – так и видел.
– Историю, как убивали Хрущева. Водкой «Зверская». С тазепамом. Вот как расскажете – так и отпустит вас.
Это что еще такое? Ты-то, пацан сорокалетний, откуда что знаешь? Жена моя тоже не знает. Это мстит кто-то из Политбюро. А кто? Может, они и меня таки, того?
Но я почему-то не стал ничего этого говорить. Закрыл глаза – устали веки.
Хотят отомстить – пусть отомстят.
– Я, владыка Никодим, никогда никакой водкой Никиту не убивал. Был такой план, но мы ж не исполнили.
– А Господь планами и интересуется. Исполнили, не исполнили – не важно. Тут намерение важно, а не исполнение.
Немилосерден твой Господь, вот что молча скажу. Как из жидовской брички вылез. Не знаю, только кто – я или Сам Господь.
И даже за само намерение Леньку осудят.
– Вас никто осуждать не будет. Скажете – и сразу полегчает.
Я разве говорил про «осудить»? Странный он какой-то, этот владыка.
– Хорошо, Никодим. Мы хотели. Это Семичастный придумал, я поддержал. Боялся, что Никита всех нас на Колыму отправит. Нажми теперь красную кнопку, будь ты так добр.
Сирена. Глухая такая, но сирена. И уже слышен бег тапочек будущего Лившица.
– Чтоб не отягощать Вас, Леонид Ильич…
– Да ты ничего не отягощаешь. Меня весь мир отягощает, а ты про себя говоришь. Присядь еще.
– Московская Патриархия просила передать Вам подарки.
Так бы сразу и сказал. А то – исповедь, исповедь.
– Я люблю подарки. Ты давай.
Никодим тут сильно заволновался. Больше, чем когда хамил со своей исповедью. Вот ведь дивно все у них устроено.
– Здесь икона святого Леонида, Леонид Ильич.
– Святого?
– Святого великомученика. Леонида.
– Это точно как я. Великомученик. А хороший экземпляр?
– Отличный, XIX века.
– Ну, хорошо. А еще что?
Зачем спросил? Будто знал.
– Вот, Леонид Ильич, – владыка смущен явно, даже мне из полусмерти видно, непонятно почему.
– Ваши стихи мы опубликовали в Журнале Московской Патриархии.
– Что?
– Вот. Это было в Лозанне, где цветут гимотропы, где сказочно дивные снятся сны.
В центре культурно кичливой Европы,
В центре, красивой, как сказка страны.
Да, помню, помню. Я в молодости намагался стихи писать. Хорошо, что не стал. Это партийной карьере бы помешало. И кто бы тогда сейчас партией руководил? Андропов? Молод слишком, неопытен. Суслов? Старый хитрец слишком, кавказец к тому ж.
А гимотропы. Какое красивое слово! У них там действительно гимотропы. А у нас разве такое привидится?
– Спасибо, владыка. Спасибо.
Я прослезился. Видать, сразу после клинической смерти начинаешь сильно слезиться.
Добрый Лившиц был уже здесь.