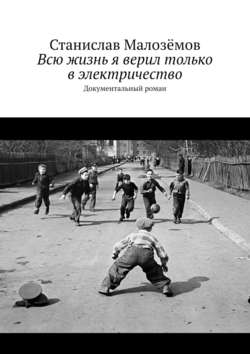Читать книгу Всю жизнь я верил только в электричество. Документальный роман - Станислав Борисович Малозёмов - Страница 7
Глава шестая
ОглавлениеПод машину, где мы на овечьих шкурах бегло просматривали навязанные впечатлениями прошлого дня сны, рассвет заползал с трудом и долго. Наши шофера с грузовиков будили нас вместо рассветного солнца. Они тихонько пинали наши ноги по пяткам, посвистывали, покашливали. И мы проснулись. Я догадался об этом по первым хриплым и сонным словам дяди Васи:
– Ну, кому там какого хрена надо?
– Пошли эфу ловить, – это произнес дядя Валера.
– Кончай ночевать! Рота, подъём! – так пошутил дядя Лёня.
Мы выползли на свет. Посидели на траве, отходя ото сна всё дальше и глубже в натуральную жизнь.
– Вода где? – почему-то именно меня спросил мой дядя.
– Вот бидон. Там вода, – дядя Лёня поставил нам под ноги пятилитровый бидон. Мы, сидя, умылись. То есть побрызгали на лица. Попили прохладной после ночи воды и поднялись. Было почти светло, но в одной руке дядя Валера зачем-то держал фонарь керосиновый, а в другой длинную палку- рогатину. Рожки были маленькие, сантиметров по пять. Дядя Лёня сжимал в руках толстый джутовый мешок и, отдельно, веревку.
– Ты, шкет, иди позади нас. Вперед не лезь. А под ноги гляди всё равно. Понял? – дядя Вася погрозил мне толстым своим пальцем.
И бригада охотников за страшными змеями медленно двинулась в просыпающуюся степь. Дядя Валера шел на пару шагов впереди и палкой постукивал по земле, разводя иногда по стебелькам густые серые пучки травы. Фонарь он держал на вытянутой руке над землёй непонятно зачем. Всё было видно и без него. В разные стороны убегали маленькие мыши, шустрые тушканчики, жуки какие-то коричневого цвета, разлетались большие мухи, кузнечики, черные бабочки с бархатными крыльями и странные крохотные серые паучки, которые подпрыгивали, переворачивались на бегу, но снова вставали на шесть своих треугольных ножек и чесали от нас подальше так же быстро, как мыши.
Прошли метров двести. Внезапно дядя Валера рванулся как большой барбос с цепи и взлетел над степью аж на полметра, и оттуда, с высоты куриного полета, вонзил в землю рогатину, сопровождая действие воинственным возгласом немолодого охрипшего индейца. Он воскликнул: – «О-оп-она!» и приземлился на колени. Он перехватил палку внизу, а другой рукой вцепился во что-то длинными пальцами. Во что – издали не видно было. Но вдруг трава рядом с ним ожила и стала метаться по сторонам.
– Идите сюда! – позвал он на всю степь, хотя мы держались кучно метрах в трех за ним. Подошли. Дядя Валера прижал к земле рогатиной змею, а пальцами крепко держал её за шею у самой головы. Мне змея показалась красавицей. Примерно метр в длину, с мягким коричневым узором от головы по всей спине. Узор был похож на орнамент, которым обрамлялись все рисунки в моей книжке «Волшебная лампа Аладдина». По бокам она была украшена пятнами посветлее, но не круглыми, а похожими на доминошное число «пять». В общем, пять расплывчатых бежевых точек, напоминающих круг. Всё портила голова. Она имела выдающиеся щеки, сужалась ближе ко рту и казалась почти треугольной. Над большими круглыми глазами с вертикальным зрачком торчали полукруглые некрасивые наросты.
– Молодая, – разочарованно сказал дядя Валера. Таких в клубе, в зоокружке ихнем, три штуки уже ползают.
– А звать её как? – я сел поближе к змее. Она уже не сопротивлялась и только часто выбрасывала быстрый трепещущий язык, раздвоенный на конце.
– Гюрза это. Самая большая из всех гадюк. Из этой поганой семейки, гадючьей, – объяснил дядя Лёня. – Ну, я мешок не разворачиваю, Валера?
– Да зачем? – дядя Валера рогатину приподнял и бросил рядом. – Пусть тут ползает. Растёт пусть. Отпускаю.
Мы отошли назад шага на три, не сговариваясь.
– Ну, давай, малышка, побежала дальше! – дядя Валера разжал пальцы и поднялся. Гюрза ещё малость полежала без движения, после чего без спешки, делая широкие зигзаги своим нарядным туловищем, уползла прямо, никуда не сворачивая.
– Я тебе говорю, нету здесь эфы, – дядя Вася высморкался, чихнул несколько раз и все пошли к машинам.– Будет время в другой раз – сгоняем в пески под Туркмению. Там возьмешь эфу. А сейчас некогда. Мне вон Славку ещё по разным экскурсиям таскать надо. Пусть в дикую жизнь вникает с любовью. Правильно, шкет, я рассуждаю?
– Ага, – подтвердил я радостно, от того, что впервые видел такую большую и страшную змею своими глазами.
А через полчаса мы всё собрали, разложили по местам и поехали к Аральску. Туда, где рядышком море. Первое море в моей жизни, которое я увижу не на карте.
Мимо города мы проскочили на скорости по верхней дороге, с которой Аральск смотрелся живописно, облагороженный поднимающимся солнцем. Золотились под радужным лучом глинобитные желтые и белёные дома, бликовала зелень деревьев городских и был он большим, красивым и шумным. Гудели какие-то моторы, слышались голоса, ехали грузовики и машины с будками к трём длинным белым зданиям с красной крышей. Во дворах этих зданий штабелями стояли решетчатые ящики, бочки, валялись трубы, висели на вбитых кольях серые многометровые сети бредешки с ручками из тонких брусьев.
– Рыбзаводы это, – сказал дядя Вася. – Ловят рыбаки в Арале, а здесь мастера разделывают, сушат, коптят, солят и консервы делают. Рыбы тут – девать некуда.
Сзади засигналили нам оба наших грузовика. Мы остановились на обочине.
– Вась, а ты ж мальцу хотел Кызыл-Кумов кусочек показать. Куда погнал-то!? – дядя Лёня поднялся на подножку и сунул лицо, облизанное ветром до шелушения, в кабину.
– Ё-о! – вспомнил мой дядя.– Я и забыл. Разворачиваемся.
– Вот. Правильно. Час вам даём на туда-сюда. А мы с Валерой забежим пока в город и возьмем шубата пару бидончиков для пользы организма. В Кульсарах на Каспии и выпьем. – Будешь верблюжье молоко пить?
Это он уже меня спрашивал. А я никогда шубат не пробовал. В Кустанае и Владимировке его не было. А больше я не ездил никуда, кроме Киева, где про него, наверное, и не слышали совсем.
– А то! – утвердительно закивал я в ответ. – Соскучился уже по верблюдам и по молоку ихнему. Мне показалось, что я хорошо пошутил.
Они стали, раскачивая коров в кузовах, спускаться на нижнюю дорогу в Аральск, а мы погнали обратно, потом свернули направо и тоже стали спускаться в сторону от моря и от города, понемногу уходя всё левее к почти черному, как свежая пахота, пространству, конца которому я не увидел.
– Направо глянь! – Дядя мой сбросил скорость и ткнул пальцем в промежуток между городом и тёмной землёй, к которой мы летели на всём газу.
В этом промежутке далеко от нас солнце поливало желтую землю. Она уходила к горизонту не ровной площадью, а волнами, буграми и даже одна красноватая гора выделялась острым своим верхом.
– Это пески пошли. Видишь, там и желтый песок есть, но основной цвет – красноватый. «Кызыл» по-казахски. Идет песчаная пустыня под Туркмению. Равниной да барханами и маленькими горами из красного песка. Туда нам не проехать. Закопаемся под самый капот. А тут в Казахстане только небольшой кусок её. Такыры.
– Кто? – переспросил я, не отрывая слезящихся под встречным ветром глаз от барханов и красных гор песка. – Картина меня заворожила и привязала к себе мой взгляд как канатом.
– Такыры. Земля пересохшая. Тут везде, почти начиная от самого Кустаная в древние времена море было сплошное. Потом тысячелетиями подсыхало. И вот что от него осталось, так это Аральское, Каспийское, да чуть дальше – Черное море. Земля стареет. Вода уходит – верный признак, что стареет земля и когда-то всё засохнет, и она остановится. Тогда всё исчезнет. Всё умрёт.
После этих слов мы стали думать об этом страшном времени, когда больше не будет ни фламинго с пеликанами, ни верблюдов, и змей не будет. Ну и нас, конечно, тоже.
С этими печальными мыслями мы незаметно ускорились и уже через час ворвались в инопланетное пространство. Я видел такое на картинках в фантастических книжках, которые лежали дома. Их любила читать мама.
Гладкая ровная земля, иногда большими кусками вдавленная какой-то силой метра на два вглубь, состояла из отдельных пластин, похожих на коросту. Они не соединялись, из щелей между пластинами не росло ничто. Поэтому пространство, сложенное из отдельных, оторвавшихся друг от друга и неодинаковых по размеру кусков земной коры, было похоже на мозаику, выложенную откуда-то сверху огромной умелой рукой художника и скульптора, который успел всюду по-разному расписать и разукрасить Землю, вылепить на ней горы, собрать огромные мозаичные картины из высохшей и разорванной миллионами трещин почвы, раскрасить тёмной синевой моря и лазурью луга и лесные поляны.
– Выходим, – вернул меня из глубин воображения добрый голос моего обожаемого дяди. – Станция Марс. Стоянка десять минут.
Я спрыгнул на такыр и сразу же почувствовал, что земля дышит. Из широких расщелин между пластами струилась нежная прохлада, которая, если приложить руку к щели, напоминала холодок осеннего воздуха, вливающегося в дом через приоткрытую форточку. Я сидел и всем телом, всеми нервами ощущал дыхание глубин нашей дорогой планеты.
Вокруг происходила разнообразная жизнь, чего я совсем не ожидал. Ползали разные жуки, большие и маленькие. На хорошей скорости носились мелкие пауки, бегали крохотные серые ящерицы, летали тонкие красноватые мухи и маленькие пестрые птицы, которые часто садились на такыр, что-то склевывали и взвивались вертикально вверх, делая новые виражи с заходом на разведанную с высоты еду.
– Ты ж, дядь Вась, обещал мне показать на такырах пауков каракурта и фалангу, щитомордника обещал показать, страшную змею. – Я поднялся и пошел вперед к каким-то кустам с кривыми и неказистыми ветками, усыпанными крохотными, слегка зеленоватыми листочками. Левее них торчали такие же кусты, но чуть пониже и пораскидистей. И стволы с ветками у них были светлее.
– Это саксаулы, – крикнул мне дядя. – Черные и белые. Так их называют. Сейчас не цветут уже, а когда весной проезжаешь мимо, пахнут цветы саксаула как духи. Розовые и сиреневые мелкие цветочки пучками висят на концах веток. Я потрогал ствол черного саксаула. Он был гладкий, бугристый и прохладный. Что меня очень удивило – от саксаула на земле не было тени при очень ярком солнце. Вообще.
– А тень куда делась? – крикнул я.
– Вот саксаул – одно единственное дерево на Земле, или куст, не знаю точно, которое тени не дает. Чудо природы. И никто не знает почему. – Дядя Вася шел за мной, внимательно оглядывая по сторонам такыры. – А! Нашел! Иди ко мне.
Я, осторожно прыгая через трещины земные, подбежал к нему.
– Блин! – мотнул дядя головой и рукой махнул на меня. – Я тебе говорил: по пустыне не бегай. Наступишь на кого-нибудь, потом хорони тебя, шкета малолетнего. Вон, гляди: круглоголовка такырная. Ящерица. Серая, маленькая. Вон сидит, возле крайнего саксаула. Надо тихонько подойти сбоку, чтоб не спугнуть
.И у нас получилось. У ящерицы была, действительно, круглая головка с маленькими глазками. Сама она была такого же грязно-серого цвета как такыр, но живот и низ хвоста выделялся матовым почти белым цветом. И, что меня удивило, по всей спине у ящерицы торчали шипы. Толстенькие бугорки, заостренные вверху.
– Острые шипы? – спросил я.
– Не трогал, – засмеялся дядя Вася. – Но природа зря ничего не делает. Наверное, не всем удается её сожрать. Кому-то шипы не по зубам будут.
Я ещё раз внимательно изучил ящерицу, чтобы запомнить, и мы пошли искать каракурта или фалангу. Ходили бестолку минут десять, встретили по пути маленькую черепашку, названия которой дядя мой не знал, но сказал, что тут их много. И наконец нам повезло.
– Стоять! – дядя взял меня за плечи и прижал к земле. – Вот теперь стой и не шевелись. Смотри прямо на конец моего пальца.
Он приставил свой указательный сверху к моему носу и вместе с пальцем рукой повернул мою голову вправо и вниз.
– Гляди внимательно метров на пять вперед и вниз. – Он перешел на шепот. – Вот этот желтый с серым пузом паук и есть фаланга.
И я её увидел. Бесформенный, толстобрюхий, песочного цвета паук с длинными, высоко изогнутыми над телом волосатыми крепкими желтыми ногами, сидел, раскрыв некрасивый слизистый рот. Собственно, и не рот это был, а широко раздвоенный коричневый клюв. На верхней и нижней частях этого загнутого внутрь клюва торчали по два треугольных, тоже искривленных зуба. Круглое как яйцо тело этой «красотки» опоясывалось пятью вдавленными темными кольцами.
– Что это за кольца, зачем? – прошептал я.
Дядя Вася, не снимая рук с плеч моих, так же тихо ответил, что всё тело у фаланги – сплошной крепкий панцирь. И что раздавить её на почве даже ногой просто невозможно.
– Хоть и без яда, но самый зверский паук на свете. Ничего и никого не боится. В драку лезет первым даже на человека, не говоря уж о животных. Быстро бегает. Догонит кого угодно. И прыгает на метр вверх. Кусает больно и со слюной заносит все инфекции и микробы. Ну, от жратвы своей, оставшейся гнить во рту. Вот эти микробы и до смерти довести могут, если к врачу не успеешь добежать.
Дядя Вася, не убирая рук с меня, стал медленно пятиться назад, уходя подальше от фаланги. Потом уже отпустил меня и сказал, что больше тут мы до вечера ничего не увидим интересного, а ждать нельзя. Ехать надо.
Мы, прыгая через трещины такыра, бегом добежали до машины. Но в кабину дядя сразу влезать не разрешил. Он открыл обе двери, достал из боковины бака, где лежат шланги, тонкую палку и минут десять ковырял ей под сиденьями, за ними, стучал по потолку и панели. Только после этого сунул палку обратно, мы запрыгнули в кабину и поехали теперь уже на Аральское море. Наконец-то. Я ехал и переживал всё, увиденное в пустыне, а дядя, по лицу было видно, тоже переживал. Но о чем-то другом, о своем. А вот о чём – мне по возрасту и опыту знать было не положено. И ехали мы молча, подминая под колеса серо-бурую пыль с тонкой колеи. Ехали просто в другое для дяди моего место, а для меня в новое путешествие по незнакомой планете Земля.
Снова на левой стороне возник Аральск. Мы проехали его уже как знакомый мне город. Но солнце уже переехало зенит и Аральск потускнел. Зато с горки он стал виден лучше. Лучи не мешали видеть его во всю длину, не отсекали яркостью своей расположенный в дальней низине конец города. Он выглядел как-то уж очень строго. Огромные прямоугольные дворы, огороженные высокими заборами. Дворов таких я насчитал пять. Из-за заборов не видно было домов. Только одинаковые серые шиферные крыши. Они лежали на домах ровными рядами. Нигде жильё так ровно, по линейке, не строят.
– А там вон, вдалеке, дворы большие, одинаковые, это что? – я пытался разглядеть хоть что-нибудь во дворах, но не получалось.
– Это военные городки. Пять гарнизонов разных. – задумчиво ответил дядя Вася и лицо его стало напряженным. Похоже было на то, что он снова пытается догадаться о смысле существования пяти военных городков в Аральске, вокруг которого на многие сотни километров не было ничего. Кроме степей, пустыни и мизерных аульчиков, которых даже подробная карта не разглядела на ровной поверхности.
– Да мать их перемать, эти городки! – он крепко стукнул ладонями по баранке. – Пять лет подряд у местных спрашивал, что там за военные. Не знает никто! А тут, мля, только со змеями воевать, да с каракуртами. Но не из пушек же их расстреливать и не танками давить! Тут же ни одной вражеской страны на тыщи километров нету! Вояки, мля! Спрятались ото всех в пустыне, чтобы враг не нашел, если что вдруг. Тьфу, тьфу, тьфу… Короче, я тоже не знаю. Оно мне, конечно, без разницы. Пусть стоят, раз поставили. Но всё равно тут что-то не так. Байконур обслуживать – так какого хрена от него строиться за семьсот километров? Сказать, что по Аралу линкоры ходят с крейсерами, да подводных лодок полное дно – так не ходит ничего на воде кроме рыбацких посудин. А подводные лодки чего по дну будут лазить? Ракущки собирать? Но ведь почему-то же народ не в курсе – на кой хрен развели тут такую тайну! Вот не люблю я это. Наш народ в такой войне победил, а ему, вишь ты, нет доверия. Ещё раз – тьфу!
Он за Аральском повернул налево и по отчетливой ровной дороге на приличной скорости погнал вперед вдоль моря. Дорога щла выше, медленно спускаясь, и долгое время скрывала берег от глаз. Только возле самого горизонта небо и вода были почти одного цвета. Потом впереди замаячил в дрожащем от близости к воде воздухе поселок.
– А в деревне этой нам что делать? – грустно спросил я. Мне хотелось поскорее встретиться с морем.
– Я тебя везу показать самое страшное, жуткое и загадочное место на Земле. Деревня побоку. Каратерен – так называется посёлок. Тут сети ремонтируют. И новые плетут. А вот прямо напротив него – остров есть. Огромный. В море уходит. Вдаль. Подожди, сейчас сам увидишь, – дядя Вася выключил коробку на нейтралку и машина покатилась с горки своим ходом, без мотора. Справа внезапно и пугающе вдруг выскочило второе небо. Первое было вверху, на своем месте, а это лежало внизу, на земле. От этой двойной ослепительной синевы я зажмурился и нагнул голову к коленям, успев срывающимся голосом уточнить у дяди.
– Внизу небо – это море?
– Оно самое! – весело и громко почти пропел он. – Арал-батюшка. Тормозим. Выходим. Дальше топаем на своих тренированных.
Мы остановились, исчез последний шум: шелест шин на твердом дорожном песке и мягкой, не такой как в степи, траве. Я спрыгнул с подножки, снял кеды и побежал к песчаному берегу. Он на секунды прикрывался мягкой и неторопливой волной, которая так же неспешно сползала с песка обратно. Море! Я стоял на песке, волна осторожно переваливалась через ноги, отдавая мне и тепло своё и прохладу, и звала за собой. Так мне казалось.
Я огляделся. Левее песчаной площадки, на которую меня сами принесли ноги, лежали острые крупные камни, круглые отполированные валуны, вдоль берега прямо в воде и на суше рос камыш, какие-то краснолистные кустики с бледной от яркого солнца корой. Это если смотреть влево. Направо, в сторону бугра, с которого мы спустились, виден был небольшой обрыв. С него свисали зелеными головами пушисто цветущие ветки молодого тальника. Потом я вернул взгляд на место и уперся им в море. Как только ни упражнялось воображение моё в оценке фантастической картины, в которую я провалился и растворился волшебным образом. Я видел себя не глазами, а трепетными нервами то на другой планете, оставшимся навсегда, то в глубине немереной, плавающим в стае здоровенных акул, то самой частью моря, волной его, нет, даже каплей этого чуда. Я представлял всё это и подсознательно благодарил и дядю своего и судьбу мою короткую, которая уже в начале жизни ни за что преподнесла мне такой подарок.
И стоял бы я так не знаю сколько ещё, если бы дядя Вася не взял меня за руку и не вывел на сушу.
– Ты, Славка, передохни чуток, волнение утихомирь, а потом пойдем главное смотреть.
Я сел на траву, мягкую, ласковую и стал успокаиваться. Слушал звук моря, непривычные крики морских птиц и шелест кустов и веток камыша.
Повернулся в сторону поселка, начал разглядывать дома и обратил внимание на то, что на всех столбах, которые торчали вокруг поселка и внутри него, на больших каменных сараях или складах висели горящие электрические лампочки. Это уже почти днём. Около одиннадцати.
– Забыли выключить? – спросил я сам себя.
А ответил мне дядя Вася, который всегда знал почти всё.
– А чего им выключать. Им соляру жечь надо. Генератор слышишь? Ну, вот он тарахтит постоянно. Он свет и даёт в поселок. А работает он на солярке. Наш бензовоз на бензине. А генераторы, трактора, комбайны – на солярке. Им её выделяет государство для освещения и для работы тракторов. Комбайнов тут нет. А солярка – это ж отходы при изготовления из нефти бензина. Поэтому дают её по разнарядке, сколько насчитали в Госплане. Есть такая контора. Она всё знает. И сколько совхозу бензина дать. Он, кстати, тоже копейки стоит. Литр – двадцать копеек. А к нему довеском солярки дают бесплатно. И все, кому горючее дали, должны потом отчёты написать, что его израсходовали полностью. Если напишешь, что только половину спалил горючки-то, на следующий год тебе привезут уже половину, а то и меньше. Потому что, мол, плохо работали раз не стопили бензин да солярку. Вот и жгут её и, когда надо, и когда бестолку. У нас во Владимировке мы, помнишь, каждый день бензин из бака в траву сливали по вечерам, когда в гараж надо ехать? Вот по той же причине. Наши начальники пишут наверх будто всё, что прислали нам, мы сожгли на работе. Тогда нам снова дают по полной. А не дай бог отчитаешься неправильно, что не всю использовал, так тебе потом уменьшат количество. Да так, что на уборку урожая, когда действительно много ездить надо, как раз и не хватит. Вот у нас в деревне с другой стороны МТС стоят две больших цистерны для солярки и три для бензина. Солярку трактора и комбайны за год не могут всю использовать. Она на зиму остается. И замерзает в цистернах. Так трактористы под цистернами костры разводят, чтобы она текла из крана. Зимой какая у тракторов работа? Снегозадержание, да дороги ножом чистить. Солярка по половине цистерны до весны остается. А тут уже тебе новую везут. По полному плану. По их расчетам. А старую куда девать? Сказать, что осталась половина от прошлого года, нельзя. Срежут объемы. Опять в посевную и уборочную не хватит. Вот у нас весной и сливают соляру в яму. Выкапывают канал от цистерн до ямы этой, которую экскаваторами выкопали, и по каналу в яму её и сливают. А она ж не бензин. Жирная. Впитывается в землю плохо. И у нас там целое озеро из солярки. Потом покажу. Сольют и канал этот закапывают, чтобы не видно было.
– Значит очень богатая у нас страна! – сказал я гордо – Войну выиграли, теперь ничего для народа не жалко государству.
– Дурак ты, шкет, – грустно ухмыльнулся дядя Вася. – Вечно так не будет. Землю доить на нефть еще лет двадцать можно и разбрасываться бензином, соляркой, мазутом. Но всё всегда кончается. Еда, вода, хлеб… Беречь надо. Экономить. А нас заставляют добро выкидывать. Вот представь, что дома вас четверо, а бабушка твоя готовит на десятерых. Вы же не съедите? Нет. Значит или пропадет еда, или выкидывать её надо. У вас полный погреб еды.
Таки он сегодня полный, но если на десятерых готовить и остальное выкидывать, то когда-то ведь в погребе не останется ничего. А могло бы остаться. Если беречь и не тратить лишнего.
Он посмотрел на мою застывшую физиономию.
– Понял хоть чего?
– Не всё и не совсем, – ответил я как пионер. Честно.
Ну, ладно. Пошли теперь самое жуткое место смотреть. Барса-Кельмес называется. В переводе с казахского – Пойдешь-не вернёшься. Не боишься?
– С тобой, дядь Вась, не боюсь! – сказал я бодро и, кстати, тоже честно.
И мы пошлю чуть дальше поселка по берегу.
– А это что, пещера? Или гора? Может пропасть, где дна нет?
Мне всё же страшновато было и болтовней я страх прижимал.
– Остров это. Красивый. Цветущий. Но самый страшный остров, хранилище тысячелетних загадок и мрачных тайн.
Дядя мой надвинул кепку на глаза, плюнул себе под ноги, перекрестился зачем-то и сказал хрипло:
– Гляди. Запоминай. Здесь живут самые страшные земные и неземные ужасы.
И он показал вперед, в море, где километров в пяти благоухал невиданной красоты зеленый остров, Весь в изумрудно-блестящих деревьях и ярких цветах. От него веяло прямо до берега тонким теплом и ароматом густых трав. От него свежий ветер нёс к берегу веселые птичьи голоса и громкий шелест травы, сквозь которую пробивались какие-то странные лошади, похожие и на ослов, и на лошадей.
Страх тут же исчез. Осталось любопытство и радостное чувство от потрясающей неземной красоты.
До острова глазомер дяди насчитал пять километров. На воде это расстояние каким-то образом сжимается. В степи за пять километров я вряд ли смог бы разглядеть лошадей, да ещё и понять, что они напоминают ослов.
– Эх, лодку бы сюда, – мечтательно заныл я. – Посмотреть бы на деревья, потрогать их, листочков нарвать на память, в книжках засушить. С самого острова Барса-Кельмес. Пацаны городские сдохли бы от зависти.
– Ты лучше послушай, что скажу.– дядя Вася снял кепку вытер ей совершенно сухое лицо и сел. Я пристроился рядом с ним и уставился на остров, не мигая и не шевелясь. И ждал рассказа. А он всё тянул, покашливал, закуривал, гасил папиросу и снова закуривал, клал ногу на ногу, потом поджимал их и усаживался по-казахски. Попутно он изредка смотрел в небо, несколько раз резко опускал голову и впивался мрачным взглядом в остров, как будто рассказ, который он обещал мне, должна была прислать с острова волшебная его сила.
– Забыл что ли, а, дядь Вась? – дернул я его за руку.
– Тут мне один местный рыбак с завода ихнего года три назад говорил, что если знаешь тайну острова, то не говори её никому. А то помутнеешь разумом и сила телесная сгинет из тебя. Лежать будешь в холодном страхе, безумный и неподвижный. Пока не помрешь от этого страха. Сожрет он тебя.
– А тебе самому кто про остров страхи рассказывал и тайны открывал?
Дядя Вася посмотрел снова в небо, ещё раз вытер кепкой лицо, высморкался нервно и с удивлением сделал для себя открытие.
– Ну, как!? Он же и рассказывал, этот рыбак самый. Он всё про Барса- Кельмес знает. Даже доплывал один раз до берега на лодке. Час там сидел, рыбу ловил. И неплохо наловил. Не помню какую рыбу, не запомнил.
– Так он живой ещё? – тихо, чтобы дядя не обиделся, узнал я.
– Так видал я его в этом году весной, – дядя напряг лоб и надел кепку. – Мы цистерны новые две штуки привозили в Кульсары, на Каспий. Я на грузовом «УралЗисе» приезжал. Встретил его в Аральске случайно. Я за хлебом заехал в магазин, а он там водку брал на день рождения жены. Живой, мля, мать его туды-сюды! Морда – вот такая!
Он описал круг в воздухе. Выходило, что морда у рыбака была с мотоциклетное колесо.
– Вот же сучок, мля! – сделал правильный вывод мой умный дядя.– Ну, тогда слушай. И он начал шепотом рассказывать, упершись взглядом в остров. Как будто боялся, что остров мог его услышать.
– В легендах много чего говорится. Я расскажу только то, что слышал не один раз. Значит, правды больше, если разные люди, которые друг друга не видели никогда, рассказывают одинаково. Короче, в одной легенде говорится, что ещё позапрошлом веке однажды рыбаки, не здешние, пятеро их было, плыли в большой лодке по Аральскому морю с другой стороны. И ничего вокруг не наблюдалось. Вода сплошная и всё. А как только нос повернули к берегу – ажник испугались. Перед ними не из-под воды, а как бы из воздуха объявился-вырос красивейший остров, весь в зелени трав разных и деревьев. Птицы над ним кружились, рыба рядом играла, из волн выпрыгивала. И так тянул к себе этот остров, что они без вёсел к нему пристали и на берег пошли. Стали идти по берегу вокруг острова и насчитали, что величиной он примерно на сто с лишним гектаров тянет размером. Ну, это я так перевожу. Они как-то по другому размер называли.
Людей на острове не было. Бегали звери мелкие, суслики, зайцы, тонкие быстрые змеи носились в траве. Лошадей смешных видели. Поменьше обычных, ноги короче и морды похожи на ослиные. Деревья всякие росли одно к одному. Берёзы, сосны, ели, осины, ольха и карагач. Цветов и ягод всяких – даже не перечислишь. А с одной стороны острова всё это богатство земли как кто топором отрубил. Резко от леса отделялась красная пустыня гектаров пятнадцать размером. И не было на ней ни травинки, ни камушка, ни существа живого. Повернули рыбаки обратно, к лодке своей. Дошли до места по следам своим, глядят, а нет лодки. Искали и там, и сям – нет её и всё. Хотя привязали крепко к дереву. Но и каната не было. Как вроде отвязал кто.
Да… Ну, помыкались они по берегу, вокруг остров ещё раз обошли. На воду вдаль глядели. Нет, не унесло лодку. Просто испарилась, и всё. Рыбаки уже собирались плот из деревьев рубить. У одного за поясом топорик имелся. Но тут вдруг на том месте, где они лодку привязали, один из них увидел огромное яйцо. И какой-то голос, которого никто не слышал, но все почувствовали его нутром, сказал, что уже пора обедать. Нечего голодными ходить. Разбейте, говорит, это яйцо и ешьте. Достал тогда рыбак свой топорик из-за пояса и попробовал разбить яйцо. Топорик отскакивал, а яйцо даже не треснуло. Впятером по очереди кололи они яйцо, но разбить диковинную находку не смогли. Тогда один рыбак разозлился и со всего маху пнул это яйцо сапогом своим. А оно – раз, и развалилось. И вылез из него маленький зелененький змеёныш с палец длиной.
– Ну чем тут пообедаешь!? – плюнули на змеёныша злые рыбаки и собрались уже идти лес валить для плота. Только смотрят, а змеёныш-то на глазах прямо стал расти как будто кто-то растягивал его и надувал воздухом. Они оцепенели и онемели. И как вроде приросли к земле. За какие-то мгновенья он вырос в огромного дракона или ящера и начал жрать рыбаков по одному. И съел четверых по очереди. А пятый, пока дракон жевал, смог отклеиться от земли и – бегом к воде. Потом упал и ползком дополз. И вплавь поплыл к тому берегу, где мы с тобой стояли. А там всего пять километров. Доплыл.
И тут ему бы, дураку, держать язык за зубами. Так нет. Стал налево-направо всем кому ни попадя страсти эти рассказывать и хвастаться, что на него у дракона сил не хватило.
А дело-то давнее. И мы тот народ древний не знаем. А люди тогда считали себя главными среди всех зверей. И они решили дракона убить. Поплыли туда с разным крепким оружием. Ждали их неделю, месяц, два. Не дождались. Сожрал их дракон. После этого все как с ума посходили. Молва про дракона в разные страны добралась. И везде находились желающие расправиться с драконом. Сколько народу туда плавало, и не скажешь. За много лет – тысячи. И все пропали. Всех сожрала тварь эта. Вот так, Славка.
Такое тут гиблое место.
– А сейчас где он, дракон? – осторожно шепотом спросил я, отодвигаясь от берега на заднице, помогая себе ногами.
– Испужался? – подобрался ко мне и дядя Вася. – Правильно. Впустую люди языками мотать не станут. Здесь он и сейчас. Потому и название такое, потому и не заманишь туда никого даже миллионом рублей.
Мне захотелось заплакать. Было жаль и рыбаков, да и всех остальных, которые хотели очистить остров от нечисти, но там и пропали.
– Так ты думаешь, это и всё страшное про Барса-Кельмес? – дядя горько усмехнулся. – Тут ещё посерьёзней чудеса творятся. Такие, что даже ученые не могут объяснить, руками разводят. Ладно пошли отсюда. В машину сядем, я тебе ещё пару загадок загадаю про остров. А ты попробуй потом в книжках поискать, как их можно объяснить.
Я бросил долгий прощальный взгляд на прекрасный издали остров, мысленно пожелал дракону побыстрее сдохнуть, и мы пошли к машине.