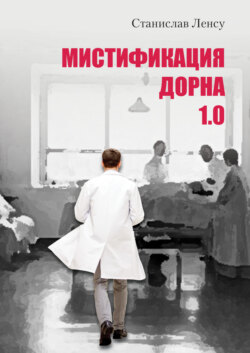Читать книгу Мистификация Дорна. Книга 1 - Станислав Михайлович Ленсу - Страница 4
Дорн. Доктор Дорн
ОглавлениеЗнакомо ли вам понятие «выгорание»? А состояние? Состояние, при котором ты, словно выпотрошенный карп, лежишь безвольной и бездумной тушкой на разделочном столе и уже не важно, тебя зажарят целиком или предварительно порежут на кусочки, нафаршируют или запекут. Приблизительно так себя чувствует врач, отправляясь на дежурство в канун нового года.
Ночное дежурство – так себе времяпрепровождение. Во-первых, не спишь. Если спишь, то урывками, а поэтому лучше вообще не спать. Во-вторых, нарушается циркадный ритм, и годам к сорока у тебя гипертония. В-третьих, все болячки у пациентов вылезают наружу. Мнимые и настоящие. Днём они ещё как-то держатся, они как бы под спудом, а вот ночью! Особенно в новогоднюю ночь!
О, новогодняя ночь в больнице! Кто из больных смог, те разъехались по домам к семейным ёлкам. Те, кто остался, сидят по палатам и, как водится, ждут чуда и загадывают желания. Правда, желания у них другого порядка, не как у здоровых: не про ауди с турбонаддувом и не про мужа-олигарха. Нет… «Дедушка Мороз, я весь год вёл себя хорошо, пусть не будет повторного инфаркта!» или «Дедушка Мороз, скажи хирургам, чтоб не терзали моё несчастное тело!», «Господи! Спаси и сохрани…». После обхода делаю перевязки. Привезли ещё пациента. Кажется, на сегодня последнего: женщину лет пятидесяти. Четыре дня назад – полостная операция. В последние два дня гектическая температура – верный признак, что где-то зреет гнойник. Из правого подреберья, пробив вялую бледно-жёлтую кожу, свисает пластиковая трубка, к которой подсоединена «гармошка» – отсос. По дренажу ни капли. Ясное дело, не работает: либо забился, либо стоит не месте. Оттого и температура. Палатный врач дренаж не проверил. Теперь это мои «дрова». Промываю, двигаю туда-сюда – ничего. Кручу трубку и продвигаю её вглубь. Внезапно, словно открыли кран, хлынула кровянистая жидкость. Удалил всякой дряни «кубиков» двести. Промыл. Повезло! И пациенту повезло, и дежурной бригаде – не нужно идти на ревизию. И так у неё всё тело исполосовано. Озноб, бивший бедняжку, словно рукой сняло. Перевязочная медсестра сноровисто обрабатывает кожу вокруг дренажа, накладывает повязку. Спешит, волнуется – на часах чуть меньше получаса до полуночи, в «сестринской» стол накрыт: «селёдка под шубой», «оливье», шампанское греется.
– Настя, – говорю, – иди уже. Утром ещё раз промоем.
– А вы? – вежливо, для очистки совести, спрашивает Настя, имея в виду новогоднее застолье и зная, что я не присоединюсь к ним, четырём барышням и докторессе из приёмного покоя, и вскоре уходит.
Каталка с больной громыхает по коридору и скрывается в дальней палате. Всё стихает. Плетусь в ординаторскую. Сотни коллег ходили этим коридором, ходили одним и тем же путём, что и я: операционная, перевязочная, палата и снова операционная. Иногда прозекторская. Среди мук и грязи – спутниц всякой болезни – нет-нет, да возникает у некоторых фантазия населить эту «долину невзгод и страданий» выдуманной жизнью, выдуманными персонажами. Хороший способ справиться с «выгоранием» – шагнуть из осточертевшей реальности в другую. Иногда совершается чудо, и фантазия материализуется. Исчезают ночные коридоры, палаты с приглушённым светом ночника, пустые кабинеты. Их места заполняют тени. Тени людей, никогда не существовавших. Их зыбкие фигуры, живущие только в твоём воображении, обретают плоть, чувства и мысли. Вспыхивают в темноте отблески придуманных событий. Вспыхивают и будоражат воображение, и от этой выдумки сердце болит на разрыв, льются подлинные слёзы, и любовь, как и страдание, тоже настоящая, а смерть непременно безжалостна и непременно с дымящейся и пузырящейся кровью. Вхожу в пустую ординаторскую.
Полночь – граница меж двух времён, между привычным и неведомым. Овальное зеркало у двери, словно полынья на замёрзшем озере, – в тёмной маслянистой воде мерцает звёздное небо. Вглядываюсь в зыбкую потусторонность. Фантом – «по ту сторону жизни» – завораживает, манит, тянет к себе. Там – другой век, давно ушедшая в небытие жизнь. Отступить бы, испугаться, отшатнуться от зеркала! Поздно. Свершилось!
За окном мелькнул и пропал белый силуэт старухи. Фельдъегерь промчался мимо на почтовых, и позёмка белым облаком взлетела ему во след. Исчезающий в ночи колокольчик отзвенел: «Промедлить – честь потерять!» – и затих. За преградой стекла вижу коридор, ряд высоких окон. За ними – заметённый снегом больничный двор, коновязь и лошадь. На морде её серебрится иней, из ноздрей струится пар. В тиши звенит морозный воздух, под чьим-то сапогом похрустывает снег. Спешу по коридору. Я в шубе. Вдруг откуда-то сбоку слышу:
– Заждались вас, Евгений Сергеевич. Я обернулся на голос:
– Вы мне?
Передо мной сестра милосердия. Именно, именно! Милосердия! Аккуратное, серое, закрытое платье под горло, белоснежный фартук, на голове косынка с вышитым красным крестом. Миловидное усталое лицо.
– Вы, видно, ночь не спали, сестрица? – спрашиваю.
– Не важно, Евгений Сергеевич. Поспешите, в операционной вас заждались.
– Меня? – переспрашиваю.
– Как? – не понимает сестрица, – вы ведь Дорн?
– Дорн, – киваю. – Доктор Дорн.
– Михаил Львович торопит: большая кровопотеря. Состояние критическое.
Мгновенно, словно снежный буран, обрушивается на меня вихрь воспоминаний: мохнатая лошадёнка неспешной рысцой семенит по зимнику. Скрип полозьев по укатанной дороге, тряская рысца, полусонный ямщик. Вокруг, куда ни глянь, заснеженная даль. Я волнуюсь и тороплю возницу.