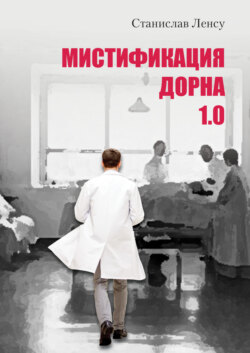Читать книгу Мистификация Дорна. Книга 1 - Станислав Михайлович Ленсу - Страница 6
Игрецкий анекдот
Оглавление– Всё это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?..
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
…Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей;..
Е. А. Баратынский
Довелось мне вечер прошлой субботы провести на балу, устроенном местным обществом любителей словесности. Приготовления к событию, да и сам повод, чрезвычайно взволновали большую часть горожан. Меня немало подивила перемена их поведения: возникшая ажитация и явная восторженность настроения. Наблюдался редкий феномен немотивированного единения барышень и почтенных горожанок, воздержание от сплетен и всяческих пересуд, впрочем, довольно незлобивых. Да и мужчины были взволнованы. Многие вдруг приобрели заметные невооружённым глазом блеск взоров и горделивость осанки. У части молодого чиновничества событие породило небывалую потребность в проявлении прогрессивности в мыслях, демонстрации смелости и широты суждений, написании резких куплетов на черновиках прошений, и появилась даже определённая дерзость в поклонах начальству.
Полицейские чины были тем немало удивлены и в некоторой вопросительности изломили бровь. Словесность на Руси – единственное, помимо бунта, противостояние властям. Справедливости ради нужно признать, что событие действительно было незаурядным. Город наш посетил известный столичный литератор Чабский Кирилла Иванович. Главы из его романа «Вдоль по Питерской» были напечатаны в модной газете, которую, впрочем, вскорости закрыли по причине банкротства. Но главную известность Чабский приобрел опубликованием в петербургском журнале открытого письма Кларе Гассуль. Письмо однако осталось без ответа, видимо, вследствие незнания адресатом русского языка.
Родом из наших краёв, Кирилла Иванович заехал в «пенаты» для улаживания некоторых дел «наследственного характера», имея в виду унаследование старого домишки на южной окраине городка. Всё ему было здесь мило, и он с живостью принял приглашение встретиться с земляками на званом вечере. На бал к дому купца Игнатова, где устроители сняли несколько комнат и большую залу, он прикатил запросто, на извозчике; был в коричневой в мелкую полоску паре, держался без церемонности и дружелюбно. Поведение такое произвело яркое впечатление на гостей, рождая у многих желание горячо и признательно пожать писательскую руку, выпить с ним на равных или даже на брудершафт. Многие трясли и многие пили.
Застолье было хлебосольным и каким-то домашним. Плавали в сметане солёные грузди, хрустящие и ароматные от смородинного листа и хрена. Глаза искали на столе хрустальную продолговатость тарелки, где щедро уложенная селёдочка, под слоем луковых колец и в пряном маринаде, обещала неповторимость вечера. Над скатертью парил, поддразнивая ноздри, запах мочёных яблок. Они матово поблёскивали на грудах квашеной капусты. Аромат пирогов с судаком и осетровой визигой кружил голову и располагал, как обмолвился почтенный Никита Ильич, «скорее к морфемам, нежели к метафорам…». Было шумно и оживлённо, как бывает только в часы провинциального застолья. Наперебой упрашивали почётного гостя зачитать «что-нибудь из своего», но он отказывался.
Ах, как быстро летит вечер! Перестали сновать официанты. Публика, потеряв интерес к угощениям и, увы, к литературе, частью перетекала на стулья вдоль стен, частью кружила вокруг фанерных раскрашенных будок, покупая билеты и в нетерпении поглядывая по сторонам. Одиноко, в стариковской своей безучастности, за опустевшим столом, сидел захмелевший Никита Ильич. Осиротели тарелки, обнажив цветочный орнамент под развалинами снеди. Подёрнулась рябью крахмальная скатерть, салфетки брошены, и с вилками лежали не в лад ножи. Грусть витала над опустевшим столом, а сердце сжимала беспричинная тоска, но… грянула музыка, грянули будоражащие кровь звуки вальса! Повскакивали на пружинные ноги молодые люди с круглыми лицами и подкрученными усиками, заискрили глазами по сторонам! Барышни выпрямили спины и с жеманным безразличием начали оглядывать ретивых танцоров. Начался бал!
Несколько мастеров литературных суждений отправились в дальнюю комнату от шума и вздорной восторженности. Там их поджидали лёгкие закуски и чай, которые, как выразился Кирилла Иванович, «нелишни в беседах о путях литературы». Мы расселись свободно. Еремей Петрович Куртуазов, долговязый инспектор гимназии и автор едкого и смелого по неблагонадёжности памфлета, напечатанного в губернском журнале «Парнокопытные Нечерноземья», даже расстегнул верхнюю пуговицу сюртука. Рядом с ним возвышалась Анна Леопольдовна Шмотке, молодящаяся супруга начальника железнодорожных работ, пишущая баллады в стиле Стивенсона. Николай Онуфриевич Горемыкин, судебный исполнитель и поэт, представлявшийся вне служебных обязанностей исключительно как «Мы, акмеисты…», расположился подле лампы с кружевным абажуром и подле Елизаветы Феофановны, молоденькой курсистки, дальней родственницы Анны Леопольдовны. Барышня оказалась поклонницей Надсона и всякий раз, когда кто-нибудь ненароком произносил «И это значит жить?», распахивала круглые свои глаза. Триумфатор сегодняшнего вечера Кирилла Иванович, войдя в комнату, тотчас ринулся к столу с закусками, громко сетуя на отсутствие водки.
Был здесь и я, незаслуженно причисленный к узкому кругу избранных, исключительно по причине странного совпадения фамилии с неким персонажем столичной пьесы.
Кирилла Иванович, измученный разговорами с поклонницами и просто восторженными особами, покинул большую залу обессиленный и голодный. С непосредственностью, присущей литераторам, он набросился на лёгкую закуску, продолжая громко сожалеть об оставшейся на общем столе водке. Окружающие меж тем завели непринуждённый разговор о новых философских мыслях, о позитивизме в науке, о мистике, о социуме как об организме и о многом другом, о чём так приятно говорить, не отягощая себя ответственностью ни за ниспровержение авторитетов, ни за яркость и бездоказательность выдвигаемых идей. Мелькали имена по большей части иностранные: Коэн, Фихте, Кант, Шеллинг и, разумеется, Гегель. С некоторым стеснением упоминались отечественные…
Естественным образом беседа разлилась на просторы рассуждений о творчестве, о душевной способности к оному и, о, Господи, прости! о «дерзновенности уподобления Создателю!». «Ведь, господа, это так очевидно, что писатель – творец! Творец, пусть вымышленных, но судеб и жизней, чарующего или отталкивающего мира, который зачастую много привлекательнее постылой обыденности!» При этих словах Лизочкины круглые глаза блеснули внезапно набежавшей слезой, а все прочие горячо зааплодировали друг другу. Лишь наш венценосец продолжал поглощать буженину и тонкие ломтики сыра, зорко оглядывая при этом ближайшие тарелки.
Откровенно говоря, мне претила пафосная воодушевлённость моих земляков и, чтобы как-то прервать это изнуряющее разум материалиста красноречие, я обратился к нашему гостю:
– Кирилла Иванович, что вы думаете об этом?
Кирилла Иванович выпрямился, оторвавшись от балыка, помолчал, сосредоточенно жуя, потом неторопливо отряхнул крошки с бороды и сюртука, вздохнул и участливо посмотрел на меня:
– Вы о чем, Евгений Сергеевич?
Не скрою, я почувствовал неловкость и покраснел:
– Вот, изволите видеть, Кирилла Иванович, я позволю себе предположить, что творчество… Э-хм… Писательство есть нечто в своем роде материальное… Э-хм… Множество сочетаний разрядов, между нейронами происходящих… Если угодно, это аномальные электрические возмущения нашей психики, и писательство – лишь их отражение. Прошу заметить, аномальные возмущения!
– Уж не подозреваете ли вы, Евгений Сергеевич, в литераторах каких-нибудь сомнамбул или душевнобольных? – воскликнул лично обидевшийся Куртуазов.
– Не буду столь категоричен, – сказал я и, подойдя к окну, распахнул форточку. Было накурено. – Однако ж согласитесь, что пишущий рассказ, повесть или, не к ночи будет сказано, роман, норовит излить бумаге накопившееся на душе. При этом, заметьте, пишут не все, а лишь те, кому нет сил удержать в себе это воображаемое! Фантазии, так сказать… Пишут те, у которых жаба грудная может приключиться или воспаление мозговых оболочек, если не прибегнуть к бумаге и к чернилам. Даже валериана с бромом бессильны! Я, господа, склонен поверить моим пациентам: нет лучшей микстуры от душевных мук, чем перо и бумага.
– Ах, Евгений Сергеевич! – воскликнула вспыхнувшая Елизавета Феофановна. – Какой вы право не деликатный! Дай вам волю, вы и графа Толстого, и Надсона упрячете в лечебницу!
Поднялся шум, не враждебный, но несколько осуждающий. Мне стало неловко. Спорить не хотелось, потому как обида уже вспыхнула, а люди творческие хоть и великодушны, но задним числом.
– Так вы хотите сказать, – начал Кирилла Иванович, перекрывая шум и заставляя всех умолкнуть, – дорогой доктор, что буквы и то, как они сочетаются, образуя слова и сливаясь во фразы, есть не что иное, как свидетельство о нездоровье разума?
Я по-прежнему был несколько смущён, но вопрос был сформулирован здраво, и я несколько ободрился:
– Поясню с удовольствием, господа, – я сделал общий полупоклон, – клиническое нездоровье вовсе не обязательно проявится писательством. Но некоторые отклонения от здравого состояния души могут проявиться тем, что принято называть творчеством: музыка, живопись. Господа, я никого не хочу задеть, но существует множество свидетельств тому, что душевный разлад, возможно, навязчивость толкают человека переложить свои переживания на плечи, простите, на души других. Освободиться от отягощающих разум видений! И вот мы видим или, простите, читаем некий опус. Смею вас заверить, что в спокойной и гармоничной душе не рождается желание писать, неоткуда взяться желанию создавать фантазии!
Кирилла Иванович вздохнул, грузно опустился на стул и с огорчением покосился на вяленый окорок:
– Другими словами, дорогой наш материалист, вы не допускаете, что рукой Сервантеса… Хе-хе, забавно, – восхитился неожиданным каламбуром Кирилла Иванович и тут же продолжил: – Мериме или Пушкина управляло провидение? Что созданное ими не есть продолжение существующей господней реальности, а только отражение их болезненных переживаний? При этом заметьте, все они были здоровы. За исключением, пожалуй, бедного вояки! Вы не верите, что в их творениях есть нечто божественное? Нечто, что увлекает нас, как увлекает жизнь?
Я улыбнулся и промолчал из-за очевидности ответа.
– Ох, доведут эти нигилисты нашу державу до безбожия! Им всё доказательства подавай! – сварливо вставил Горемыкин. В этот момент Кирилла Иванович сорвался со стула, ухватил вожделенный окорок и, полуобернувшись к двери, позвал:
– Эй, человек! Принеси-ка, братец, водки! Потом, относясь ко мне, сказал:
– Вы, Евгений Сергеевич, путаете бумагомарание с творением. Ужель вы полагаете, что дело лишь в человеке пишущем? А тот, кто читает, по вашему мнению, не причём? Вы представляете писательство как переношение с помощью графических знаков на бумагу образов, возникающих в голове литератора. Но, дорогой мой, это не так! Чудо господнее не в этом! Оно совершается, когда в человеке читающем…
– Homo lectitatis, – встрял Горемыкин.
– …Читающем, – нахмурился и повторил Кирилла Иванович, – пробуждается воображение, созвучное писательскому, когда два этих воображения рука об руку ведут читающего по закоулкам и лабиринтам текста до тех пор, пока читатель не останется один на один с самим собой, чтобы любить и страдать, умирать и рождаться сызнова!
Мне стало скучно и привычно: в такой манере не раз со мной говорили мои пациенты. Они точно так же неутомимы в искании красноречивых оправданий своих навязчивых идей. Кажется, я улыбнулся этой мысли, поскольку Кирилла Иванович спросил:
– Вам кажется это забавным?
Я устыдился своей бестактности. В это время в дверях появился половой, неся на подносе пузатый графинчик и наполненную рюмку. Писатель в одно мгновение опрокинул водку в разверзшийся в бороде рот. Затем взял с подноса какой-то листок бумаги и пробежал его глазами. Оборотившись ко мне, сказал:
– Вам тут записка. Уж извините мою бесцеремонность! Явился некий господин Томский. Надеюсь, новость для вас не огорчительная? – и тут же хохотнул. – Сам-то я страсть как не люблю неожиданных визитёров!
* * *
Я скоро шёл по коридору, удивляясь внезапности появления посетителя. Кирилла Иванович вышагивал рядом. Когда мы покидали уютную комнату и компанию литераторов, он навязался мне в провожатые, рассказывая, что дом-де – старый путаник: столько переходов, что кабы он тут сызмальства не хаживал, то не смог бы шагу ступить, не потерявшись в коридорах.
– Ах, милый доктор! Верите ли, в юности я бывал здесь часто. Часами просиживал в сумраке библиотеки! Я витал в своих романтических грёзах далеко от дождливой и унылой осени! Задыхался от ветра в метели, пытал счастье вместе с рыжим инженером, сражался и погибал в отрядах этеристов!
Коридор был длинный. Высокие стены, выкрашенные в охру, с белой лепниной под потолком, были увешаны гравюрами. Я шёл, невольно оглядывая их, и свет от ламп вдруг выхватывал из тёмного небытия тоги античных героев, повозку на лесной дороге, узловатые ветви деревьев и захрапевшую, вздыбившуюся в испуге лошадь. Неожиданно коридор свернул налево, оборвался несколькими ступеньками вниз и провёл в полутёмный боковой проход через ярко освещённую, но пустующую комнату с несколькими креслами и столом для игры в карты.
Проходя мимо какой-то залы, я услышал шум голосов и музыку, кусками выскакивающую из приоткрытых дверей. Яркий свет на мгновение прорезал полумрак.
– Нам туда? – обратился я к провожатому.
– Нет-нет, – последовал ответ, – это потом, это позже.
В просторных сенях, где на вешалке гроздьями висели плащи и накидки, где лакей дремал среди шляп и зонтов, молодой человек с манерами провинциального аристократа нервно мерил диагональ комнаты широкими шагами.
Он обернулся к нам, и по тому, как переводил требовательный взгляд с меня на бородатое и широкое лицо Чабского, я догадался, что это и есть вызвавший меня незнакомец. Он коротко кивнул, не спуская с нас глаз, и представился:
– Томский, местный помещик, – и тут же спросил, обращаясь к нам обоим: – господин Дорн?
– Это – вот-с, – обрадовался Кирилла Петрович и довольно развязно подтолкнул меня вперёд. – Рекомендую: Евгений Сергеевич Дорн, врач. Ведь вы врача ищете, господин Томский?
– Да-с, врача-с! – Томский подошёл и протянул мне руку. – Собственно именно вас, господин Дорн.
Визитёр окинул меня взглядом, то ли примериваясь, то ли оценивая. Он разглядывал меня почти бесцеремонно, и я было начал закипать, готов был резко распрощаться с ним, но в этот момент Чабский громко провозгласил: «Ну-ну, не смею отвлекать…» – и растворился в проёме левой двери. Лакей из угла неожиданно громко всхрапнул. Мы остались вдвоём.
– Прошу простить меня, Евгений Сергеевич, – Томский прервал молчание, – видите ли, дело моё деликатного свойства.
Он снова замолчал. Было видно, что началу разговора мешает не волнение, а какая-то душевная борьба, словно ему претило посвящать меня в это «дело деликатного свойства». Я ждал.
– Не угодно ли… – он сделал усилие и неожиданно совершенно казённым голосом продолжил: – господин Дорн, не соблаговолите ли нанести визит моей тётушке?
* * *
Коляска катила по опустевшим по-вечернему улицам. Закатное небо плыло над нашими головами. По сторонам громоздились тёмные, безмолвные дома. В промежутках меж ними, оттуда, где ютились небольшие сады, неожиданное солнце вдруг ослепляло глаза, прорываясь сквозь поредевшую осеннюю листву, и снова пропадало.
Из короткого разговора в сенях дома купца Игнатова я узнал от Томского, что он со своей родственницей живёт в имении в десяти верстах от города N***. Молодой человек уговорил меня заночевать в имении, чтобы утром я мог осмотреть больную. Видя мои колебания, он вызвался самолично и тот-час же после обследования отвезти меня в город. При этом я заметил, что был он нетерпелив и готов был вспылить.
В дороге мы большей частью молчали. Все мои расспросы о самой пациентке и её здоровье оставались без ответа. Лишь однажды Томский коротко ответил:
– Фантазии, доктор, фантазии!
Дом стоял сразу за поворотом недавно наезженной колеи. Неряшливо разросшиеся кусты и ряд тополей в стороне от крыльца указывали, что именно там когда-то была главная подъездная дорога. Сам дом с высоким крыльцом и колоннадой по фасаду был мрачен и выглядел нежилым. В вечернем сумраке среди серых теней выделялся двумя горящими окнами в первом этаже неказистый флигель, стоявший с северной стороны усадьбы. Именно к нему направил коляску Томский. Мы прошли через тёмные и стылые комнаты в небольшую столовую, где на круглом столе исходил жаром самовар. Толстая скатерть с пасторальным рисунком, украшенная бахромой, ниспадала волнами до самого пола. Лампа с широким абажуром висела низко, очерчивая круг света над столом.
Бесшумно из-за тяжёлой портьеры появилась женщина, видимо, из прислуги, низко поклонилась нам, пробормотав что-то себе в подол. Томский прошёлся по комнате, задёрнул плотные шторы на окне, окончательно погасив тлеющий вечер, и остановился возле стола. Мы молчали: я, с любопытством оглядывая жилище; Томский, погружаясь в раздумья. Тихо вокруг стола скользила прислуга, расставляя чашки и продолжая бормотать что-то невнятное.
Вдруг из темноты соседней комнаты послышался шорох. Словно зашуршал шёлк. Звук становился явственнее, громче – и вот уже не было сомнений! То была женщина, направлявшаяся к нам быстрой походкой. Мгновение – и вот она вошла. Невысокая, с гордой посадкой головы и острым взглядом. Шёлковое платье на ней было скроено по моде начала века: силуэт, покатый от плеч и в талию, рукава-буфы, юбка колоколом с множеством сборок на бёдрах. Волосы, расчёсанные на косой пробор и забранные наверх «узлом Аполлона», были модного каштанового цвета. При всей неожиданности такого убранства для наших дней я словно рассматривал акварели Соколова: наряд удивительным образом подходил вошедшей даме, что называется comme il faut[1].
Не хватало лишь бравого кавалергарда рядом или щёголя с тростью и в шляпе «шапокляк». Однако при взгляде на неё я к своей досаде обнаружил: женщина лет пятидесяти не отличалась красотой. Впрочем, приглядевшись, я уже не был столь уверен: около шестидесяти? Нет, старше, наверное! Или всё же… И эти нелепые румяна! В общем, я был несколько растерян.
– Ma tante[2], – произнёс Томский, – позволь представить тебе господина Дорна.
Лицо моего провожатого имело выражение, словно он только что выплюнул лягушку: брезгливое и одновременно раздосадованное.
– Дорн? – переспросила вошедшая, – доктор? Голос был сильный, грудной и властный.
Я сдержанно поклонился:
– Дорн, Евгений Сергеевич, врач.
К чаю подали варенье, пирожки с капустой и мёд. За столом говорила преимущественно хозяйка. Я слушал внимательно, надеясь уловить в её поведении, словах и внешнем виде какие-нибудь признаки недуга, ради которого, собственно, я и притащился в этот странный дом. Впрочем, её речи и habitus наводили на определённые мысли. Томский решительно молчал с видом человека, выполнившего крайне неприятный для него долг.
– Paul, ты так упрям, что бываешь несносен! Представь, mon ami, – обратилась она ко мне, – пришлось устроить небольшой скандал, чтобы он отправился за тобой! Но я рада, что он тебя отыскал! Вот видишь, – она повернулась к насупившемуся Paul, – ты говорил, что это мои фантазии и выдумка сочинителя! Полюбуйся, – тётушка повернулась в мою сторону и торжествующе указала на меня раскрытой сухонькой своей ладошкой, – всякая литературная небылица, в конце концов, материализуется! Что было раньше? Афиша, театральная программка! Теперь изволь видеть – Дорн, совершеннейший Дорн! И не актёришка какой, а что ни на есть самый натуральный Евгений Сергеевич!
Мне стало неприятно, что обо мне в моём же присутствии говорят в третьем лице:
– Однако мне странно слышать ваше удивление. Что ж с того, что моя фамилия совпадает с неким персонажем?!
– Нет, любезный, тебе не вывернуться! Уж коли попал впросак, имей силу признать! Был ты выдумкой театральной, а вот обрёл и плоть, и кровь. Да и полно тебе фанабериться! Чай не одному тебе творец дал случай жизнью пожить!
– Простите? – я насторожился.
Та словно ждала моей реплики: живо встала из-за стола и подалась чуть вперёд ко мне так, что свет лампы осветил её лицо. Изумруд черепахового гребня в высоких её волосах вспыхнул и погас. В волнении она вскричала:
– Взгляни! Ужель не знакома? Ах, боже мой! Я – творение нашего гения!
Томский страдальчески закатил глаза и громко застонал.
Я был совершенно сбит с толку и, сознаюсь, в некоторой растерянности глядел на старуху: дряблая кожа на шее, румяна на поблёкших щеках, комочки краски на ресницах и выцветшие глаза.
– Ну же! – тётушка стояла несколько принуждённо под светом лампы.
Потеряв терпение, она упала на стул:
– Вглядись, бестолочь! Я графиня ***! Я отшатнулся:
– Невероятно, – признаюсь, я был поражён. – Вы хотите сказать, что вы – графиня ***?! Но это невозможно!
– Так же невозможно, как и твоё существование, любезный! – быстро парировала графиня.
– Но это – случай! – воскликнул я в волнении.
– Сказка, – неожиданно отозвался Томский.
Некоторое время все молча пили чай. Графиня торжествующе улыбалась, Томский хмурил брови, я приводил мысли в порядок: «Невероятно! Вот так просто, среди сельской скуки и пустомыслия, в заброшенной усадьбе и в тесной комнатёнке, передо мною приключилась совершенно безумная старуха! Хорошо бы с бредом и навязчивостью, более подходящей для нашего скромного городка! Скажем, небывалый урожай или добрые дороги. Так ведь нет! Пиковая дама! Каково, а? Вот уж действительно сила гения! Но Томский, Томский!» – я покосился на молодого помещика. Сидит, морщит лоб, как ни в чём не бывало. «Позвольте! Томский! Но ведь он действительно племянник графини! Случай! Конечно, случай! Конфуз, однако, Евгений Сергеевич, в другом. Позволь спросить тебя: а ты сам кем будешь? Какой такой Дорн? Не вспоминается ли вам Генуя, доктор? Нет, нет, пустое! – я решительно тряхнул головой. – Вот мы сейчас всё разъясним! Непременно разъясним!»
– Позвольте узнать, – обратился я к сумасшедшей и неожиданно для самого себя добавил, – Ваша Светлость…
– Что тебе, сударь мой? – сварливо отозвалась графиня.
– Вот вы изволили представиться графиней ***. Однако ж согласитесь, это довольно неожиданно. В наших краях и дворян-то немного, все в переписи значатся. У нас и предводителя никогда не бывало, а тут…
– Смею вас уверить, Евгений Сергеевич, – сокрушённо вздохнул Paul, – графиня титул получила по мужу-покойнику, – он снова вздохнул. – Верите ли, я сам иногда теряюсь от её фантазий. Просто голова кругом! А тут ещё вы! Материализовались…
Я было нахмурился от вздорного его замечания на мой счёт, но решил продолжать и снова обратился к старухе с решающим, как мне казалось, вопросом:
– Однако ж вы тогда должны знать тайну трёх карт!
– Полноте, батюшка! – отмахнулась старуха. – Ты ведь умный человек, практический. Какая тайна! Выдумки всё это, сударь мой! Мальчишество да озорство!
– Но, ma tante! – неожиданно пришёл мне на помощь молодой человек. – А как же ваш проигрыш герцогу Орлеанскому? Вы сами рассказывали о месье Сен-Жермене! Это так же верно, как и то, что вам не нравятся утопленники и русские романы!
– Эка ты вывернул, батюшка! – перекрестилась старуха. – Ночь на дворе, а ты о романах! Снова утопленники или, чего хуже, артиллерийские офицеры начнут мерещиться!
Она перекрестилась опять и зябко повела плечами.
– И ты туда же? – обратилась она ко мне сердито и передразнила: – Три карты! Тоже решил, что случай обхитрить можно?
Графиня сердито поджала тонкие губы и в сильном раздражении сухоньким пальцем своим оттолкнула серебряную ложку.
– Однако ж, ma tante, – горячо продолжил Томский и, не закончив начатой фразы, воскликнул: – Если б он не обдёрнулся на третьей карте, если б не обдёрнулся!
– С чего вы взяли, что он обдёрнулся? – вмешался я и осёкся.
Я не заметил, как присоединился к их семейному бреду, как готов был уже принять всю эту фантазию за реальность. Графиня и Paul молча смотрели и ждали, как я продолжу. Не скрою, в какой-то момент у меня перехватило дыхание, множество мыслей и образов вихрем пронеслись в моей голове, кровь застучала в ушах, и я… продолжил:
– Он не обдёрнулся! – сделал я паузу. – Она, – я указал на старуху и встал из-за стола, – назвала ему неверную карту!
– Как ты узнал! – взвизгнула старуха.
* * *
Графиню отпаивали чаем с пионовой настойкой, но безуспешно, отчего пробовали даже херес. Однако ж она долго не успокаивалась, прерывисто охала низким голосом, повторяя «Как ты узнал…», и шумно прочищала нос. В конце концов, она перестала выдёргивать своё запястье из моих рук – я пытался не столько сосчитать её пульс, сколько успокоить, – и затихла.
Немедля выставив племянника вон из старухиной спальни, я с помощью прислуги уложил больную в постель, явившись невольным свидетелем разоблачения дряхлого тела. Из-под парика каштановых волос открылись свету седые и коротко стриженые на птичьей её голове. Голова её тотчас была укрыта чепцом с мелкими кружевными оборками. Щуплое старухино тело в длинной, тёплой рубахе укутали в вязаную кофту и укрыли толстым одеялом. Я сел возле узкой, почти солдатской, кровати и снова взял дряблую руку графини. Нащупал пульс. Живая жилка под истончившейся кожей мягко толкала в подушечки моих пальцев, неутомимо струя кровь от сердца к увядающим тканям и обратно. Спускалась ночь. Лампа с матовым в кольцо абажуром погашена. Наполненный янтарным хересом хрусталь забыт на пустом столе. Окно зашторено.
– Я всегда была некрасивой… – неожиданно заговорила графиня, не открывая глаз. Румяна местами смылись слезами, местами размазались носовым платком.
– Мне за семьдесят, а я так остро чувствую, как я некрасива. Не было на свете мужчины, в котором родились бы романтические мысли от встречи со мной. Ах, сколько во мне было любви, доктор! Сколько я могла бы отдать счастливцу! – голос её осёкся низким всхлипом.
– М-м-м… – промычал я что-то неопределённое. Пульс зачастил и стал напряжённым.
– Видно потому мне везло за ломберным столом, – она горько усмехнулась.
Дряблые губы от этой усмешки разъехались наискось, и покрытая мелкими волосками кожа вокруг рта дрогнула множеством мелких морщин. Молоточки под моими пальцами били часто, сбиваясь и замолкая на мгновение, чтобы вновь разразиться очередной дробью. Старуха молчала; только из-под ресниц, блеснув, сбежала слеза: скользнула по скуле и расплылась на подушке тёмным пятном. Пульс засбоил, толчки в пальцы стали короткими, слабыми, промежутки меж ними стали чаще, затем внезапно, словно дёрнули шнур электрического фонаря, всё смолкло. Графиня шумно втянула воздух и застыла не дыша. Пульс сильно ударил в пальцы и ровными толчками стал дальше отмерять отведённое ей время.
– Было, было… – тихо выдохнула она. – На балах сидела с подружками, ждала взгляда, касания руки… Ах, как играли скрипки! И всё мимо, мимо меня! Проносились пары, юбки шелестели, кружились куполами, ленты в волосах… да всё мимо меня… было, было однажды… один только раз, почти случай. Кузина из каприза отказала какому-то кавалеру, и он пригласил меня… Ах, если б не случай, если б она не засмеялась! Так звонко, так оскорбительно! – она открыла глаза и снова усмехнулась. – Он от меня отшатнулся, как от прокажённой! Да потом глянул кругом, все хихикают, и он, стесняясь и закрываясь рукой, тоже прыснул в кулак… Дурак!
Она неожиданно цепко схватила мою руку и сильно сжала:
– Никогда никто не посмел бы смеяться надо мной, коли со мною был бы кавалер!
Лампа светила неровным светом, рождая всполохи на гранях хрусталя. Ночь за окном густела и заливала темнотой весь белый свет.
– Третьей карты не было и нет, – выдохнула она тихо, – как не было и первых двух. Русскому человеку подавай всё числом три… С первого раза он не верит! А фортуна была лишь в одной карте… В одной, но в третьей, – усмехнулась безумная старуха и подмигнула мне левым глазом.
* * *
На ночлег мне отвели небольшую комнату с простой мебелью и низким потолком. Широкое в две створки окно выходило на залитый лунным светом луг. Я прикрутил лампу: пламя съёжилось, затрепетало, едва касаясь фитиля. Выглянул в окно.
Чёрные кроны деревьев застыли, очертив траурной каймой низ светлого неба. Угол господского дома и край крыльца с каменными вазами были видны совсем рядом. Ломкие сухие стебли в вазах были недвижимы, словно редкие штрихи углём на пепельном ватмане ночи. Я тронул край печи, белевшей в углу комнаты. Было зябко, изразцы едва согревали ладонь. В этот миг боковым зрением я заметил, как кто-то со двора заглянул в окно и тотчас прошёл дальше. Я невольно отступил вглубь комнаты и упёрся в комод. Позади меня возникло движение, и я резко обернулся. Дверь в комнату медленно отворялась. Непроглядный проём между белым полотном двери и стеной неумолимо расширялся, как треснувший лёд на реке: медленно и неизбежно он открывает бездну чёрной кипящей воды. Вошёл Томский. В свете луны был он бледен и странен. Я невольно покосился на стену за его спиной, проверяя на месте ли его тень? Чёрный её силуэт несколько меня успокоил.
– Я не причиню вам вреда, – начал молодой человек и при этом положил правую руку за отворот сюртука.
– Вы, я уверен, догадались, зачем я здесь, – он прошёлся по комнате, как давеча мерил шагами сени купца Игнатова.
– Взгляните на меня, – он резко и с болезненной страстностью оборотился ко мне, – я нищ! Я молод и полон планов! Но я в заточении, в заточении нищеты!
Он судорожно перевёл дыхание и приложил ладонь к влажному от испарины лбу.
– Одно ваше слово, третья карта и – я свободен! Я уеду отсюда навсегда… Уеду в Париж! Как я хочу в Париж! Там свободные люди, среди них и я стану свободен. Быть может, там я встречу девушку, такую, которую вовек здесь не встречу! Мы будем путешествовать, увидим другие страны, встретим других людей и будем счастливы своей свободой! Одно только ваше слово!
«Однако ж какая странная у меня ночь! – подумалось мне. – Вовсе не так предполагал я провести её. Почему-то согласился приехать сюда. Предполагал привести в чувства старуху, а тут безумцами полон дом!» Позднее время да больше нелепость происходящего не давали мне собрать мысли воедино. «Так-так, с чего он взял, что я знаю третью карту? Надо, чтобы он высказался, и тогда я смогу понять логику его вздора… а поняв, найду возможность направить его мысли в нужное мне русло».
– Да с чего вы взяли, что я знаю третью карту?! – воскликнул я, как можно более непринуждённо. Paul замолчал и склонил голову, как провинившийся студент. Пробор в гладко зачёсанных волосах белел, напоминая косой шрам. Томский медленно достал из-за отворота револьвер:
– Зачем вы так быстро отвечаете? Вы верно знаете карту! Молодой помещик держал пистолет крайне неловко, видно, в первый раз. Двумя большими пальцами он с усилием оттянул тугой курок. Улыбнувшись своему успеху, словно дитя, слепившее песочный куличек, он навёл револьвер на меня.
– И не вздумайте умереть, чтобы явиться ко мне потом старухой! Назначьте карту, доктор!
– …Господин Томский, – я прокашлялся, голос мой странным образом задрожал, мысли пришли в полное смятение, – послушайте, всё это нелепость и полный вздор! Я здесь по вашей же просьбе осмотреть графиню… Вашу тётушку… Я врач, ни о какой карте мне ничего не известно. Я случайно догадался!
– Случайно? – он моргнул. Пистолет дёрнулся. Я невольно зажмурился.
– Нет, дорогой доктор, не случайно. Вы прекрасно знаете, что ничто не бывает случайным: если кто-то заболевает туберкулёзом, то ничто, никакой случай не отвратит его кончины. Вопрос лишь в сроке: кто-то раньше, кто-то позже, но все отправляются в мир иной. Всё движется по заведённому порядку. Нет ничего случайного и в том, что я здесь, и в том, что вы здесь. И если я нажму курок, значит, вы не случайно согласились приехать сюда. Значит, вы стремитесь к смерти. Если я не нажму курок, значит, вы наверное, знаете карту. Значит, вы мне её назовёте.
Он снова моргнул и продолжил;
– Японцы говорят, что жизнь – это дорога. Дорога, которая петляет и вдруг выводит тебя на развилку. Не задумываясь повернуть налево или направо, ты идёшь дальше, упустив, что у тебя есть выбор. Тебя ведёт рок, фатум, судьба! Вот вы, Евгений Сергеевич, сейчас на развилке, а я – фатум, делаю одолжение, позволяя вам выбирать: свернуть влево или вправо.
Сумрак скрадывал черты его лица, но требовательный и торжествующий взор блестел и впивался в меня, требуя ответа. Нет ничего более странного, чем смотреть в чёрный зрачок револьверного дула. Видеть тусклый блеск металла, мысленно видеть, как под сверлом мастера стальная заготовка превращается в ствол; как для смертоносного вращения пули седой оружейник неторопливо вытачивает спираль нарезок на внутренней зеркальной поверхности; как ладно подогнанные его натруженной рукой казённая часть, ствол и деревянная тёплая рукоять мгновенно складываются в то, что сейчас смотрит мне прямо в лицо; видеть и отказываться верить, что смерть придёт через мгновенье, придёт со вспышкой пламени и запахом порохового дыма.
– Послушайте, Томский, – начал я медленно, стараясь скрыть волнение, – я непременно назову карту. Только ваше логическое построение насчёт фатума и… прочее, – я сглотнул, – уязвимо.
Ворот сорочки давил мне горло и я, не торопясь, ослабил галстук.
– Можно ли вас понять, что я не волен пойти третьей дорогой? Моя свобода лишь в выборе одной из предрешённых судьбой?
– Верно! – воскликнул Томский, окончательно войдя в роль фатума.
– Значит ли это, что у меня нет шансов обмануть судьбу?
– Никаких! – радостно поддержал он меня и почти приставил дуло к моему лбу.
– Что ж, я назову карту, – пауза повисла меж нами, и, казалось, сумрак в комнате уплотнился от тишины.
– …Но вы, Томский, не обманете свою, – я снова сглотнул пересохшим горлом, – судьбу. Карты уже сданы! Туз лёг налево, а дама – направо. Вы не вольны предложить свой вариант. И коли вам суждено сорвать банк, вы его получите и без моей карты. Если ваш удел прозябать в этом флигеле, то назови или не назови я вам карту, ничего не измениться! Разве что смените этот дом на богадельню.
В этот момент чей-то силуэт заслонил убогий свет ночного неба, словно кто-то снова заглядывал в окно. Мы, не сговариваясь, отступили вглубь комнаты.
Мелькнув на мгновение, тень исчезла. Бледный свет вновь залил комнату, очернив тени и размыв наши лица. Томский коротко взглянул на меня, словно проверял, не померещилось ли ему. Потом спрятал револьвер и опустил глаза. Ссутулившись, он быстро вышел из комнаты. Я повалился на кровать в изнеможении и не раздеваясь. Кажется, я знал третью карту.
* * *
Мне пригрезилось, что я лишь на мгновение сомкнул глаза, и сразу же раздался стук в дверь:
– Батюшка, милостивый государь, пора уж, поспешайте! – раздался голос полового.
Я вскочил. Комната была погружена в ночной сумрак. Взглянув в подслеповатое зеркало у кровати, я заметил, что на мне сюртук и галстук, повязанный вокруг высокого воротника белой сорочки. Меня словно осенило: всего несколько часов назад я покинул бал в доме купца Игнатова! И вот я, среди ночи, нахожусь в сельской глуши со странными и чужими мне людьми. Придя от этой мысли в замешательство, я отстранился от зеркала и повернулся к окну. Каково было мое удивление, когда я увидел, что окна господского дома горят, за ними какое-то движение, и коляски одна за другой подкатывают к шумному крыльцу.
За дверью меня ждала прислуга со свечой в руке. Скорым шагом мы направились по тёмным коридорам: женщина – впереди, освещая дорогу, я – следом, не понимая, что происходит, но готовый принять невероятность происходящего. Миновали одну комнату, другую. Спустя несколько поворотов вышли к переходу между флигелем и домом и, наконец, очутились в широкой зале, где над головой тяжело нависал балкон второго этажа, а пары невысоких колонн справа и слева открывали лестницы, ведущие наверх. Прямо передо мной начинались ступени вниз, в сгустившейся темноте за ними угадывались высокие окна. Оглянувшись, я обнаружил, что моя провожатая покинула меня – красноватое пятно вдали коридора мелькнуло и исчезло.
В тот же момент я услышал музыку. Где-то близко, но приглушённо, еле слышно, едва угадываемо, звучала музыка. Скрипки? Скрипки… И даже очень мило и, я бы сказал, легкомысленно. Звуки стали отчётливей, они прорывались кусками, и вот уже они складываются в мелодию, и вот уже откликаются во мне улыбкой, и наполняют меня радостным ожиданием невероятного: встречи, быть может, или чувства?
«…Одной любви музыка уступает…» – нежданно мелькнуло в моей голове.
Я шагнул к дверям – как я не видел их раньше? Решительно потянул обе створки, и яркий свет обрушился на меня из огромной, наполненной людьми и музыкой, залы.
* * *
Я шёл не спеша мимо статских и военных, мимо разряженных дам и девиц, сдержанно кланялся и улыбался в ответ на доброжелательные поклоны незнакомых мне людей, растерянно оборачивался вослед незнакомке, скользнувшей по мне заинтересованным взглядом. Я шёл, и ожидание поразительного не покидало меня.
В центре зала танцевали нескончаемый вальс. Шелестел шёлк, мелькали руки, проносились пары, блестели разгорячённые взоры, и улыбки недосказанной откровенности озаряли лица. На небольшом возвышении, на противоположном конце зала, в окружении девиц сидела разряженная и нарумяненная старая графиня ***. Приглашённые гости подходили к ней в поклонах, роняли две-три фразы и удалялись. Старуха сидела, как изваяние, не видя и, казалось, не слыша никого.
Меня окликнули. Подошёл Томский и увёл меня под руку в боковую комнату, где за несколькими столами шла игра. Мы приблизились к группе молодых людей. Томский меня представил.
– Дорн? – спросил меня один из них, пехотный офицер с приятным и открытым лицом. – Вы – немец? Уж не из обрусевших ли вы немцев?
– Именно так, – решил подыграть ему я, – имея мало истинной веры, имел он множество предрассудков.
– Вот как! – воскликнул другой, отрекомендовавшийся Суриным. – В душе вы игрок, но отроду не брали карты в руки?
Все дружно засмеялись, принимая этим меня в свой круг, и лишь Томский нахмурился: прикусив губу, он поглядел на меня долгим и недобрым взглядом. Когда дружная компания придвинулась к одному из столов, где пошла игра по-крупному, Томский отвёл меня в сторону.
– Дорн, – обратился он ко мне, глаза его блуждали и блестели нездоровьем, – при мне сорок семь тысяч. Это всё, что у меня есть!
Он замялся, отводя взгляд. И снова продолжил:
– Дорн, послушайте… Евгений Сергеевич, только вы можете спасти меня, моё имя и… – он взглянул на меня, – саму жизнь! Так сложилось… Да! Именно сложилось, что я похитил на службе триста тысяч. Мерзко, гадко! Я знаю, знаю! Не нужно так глядеть на меня! – прошипел он злобно и коротко оглянулся на играющих.
– Дорн, – заговорил он лихорадочно, – возьмите эти деньги и сыграйте две карты! Только две! Все сходится, вы полунемец, не играете, но, верно, игрок! Вы лишены сердечных привязанностей, вы одиноки – тем слаще играть с судьбой! Вы холодны и расчётливы, вы видите мир сквозь призму случая, верите, что путь ваш предначертан, одним словом – игрок! Сыграйте лишь две карты и верните мне триста тысяч, верните имя, честь и жизнь! Утройте, усемерите мою судьбу!
Я слушал, пытаясь понять, насколько опасно помешательство несчастного Paul. Тот схватил меня за руку и тихо, на этот раз удивительно спокойно, произнёс:
– Дорн, если вы не согласитесь, я застрелю вас. Всё одно – каторга!
Мы подошли к столу как раз на перемену игры.
– Позвольте поставить карту, – обратился я к банкомёту. Недавние мои знакомцы заулыбались и зашумели, поздравляя меня с удачным началом мистификации. В это время Томский быстро надписал мелом куш над моей картой.
– Сколько-с? – прищурившись, уточнил банкомёт. – Сорок семь тысяч?
При этих словах любопытствующие быстро перешли от соседних столов к нам.
– Что, бьёте вы эту карту? – не сдержавшись, почти выкрикнул Томский.
– Смею вам заметить, – последовало спокойное продолжение, – что карта ваша сильна, но я не могу метать иначе, как только на чистые деньги. С моей стороны, довольно вашего слова, но порядок игры…
Томский, не дослушав, бросил на стол несколько банковских билетов.
Банкомёт молча поклонился и стал кидать карты на стол: одну – направо, другую – налево.
– Выиграла! – воскликнул я, немало подивившись совпадению выигравшей карты и той, что легла налево.
– Извольте получить? – спросил банкомёт.
– Нет, играю снова! – я заменил карту и уже сам мелом надписал новые цифры.
Метающий побледнел и вытер испарину со лба. Ему тут же принесли сельтерской.
Он стасовал карты и вновь стал отбрасывать: одну – налево, другую – направо.
Карты равномерно ложились то на одну сторону стола, то на другую: налево легла девятка, направо – шестёрка, налево – король, направо – десятка, налево…
– Есть! – воскликнул я, заражаясь странным неспокойствием души, приводящим к ознобу и сухости во рту. Все в величайшем волнении смотрели, как я медленно открываю свою карту. Наконец, она открылась. Повисло молчание. Даже музыка из соседнего зала, казалось, стихла.
– Изволите получить, – банкомёт прервал молчание и выложил на стол несколько ассигнаций по сотне тысяч.
– Благодарю вас, – я слегка поклонился и развернулся, чтобы уйти.
В это время рука Томского вцепилась мне в локоть.
– Вы безумец, если уйдёте сейчас! – прошипел он. – Я доверился вам единственно, чтобы удостовериться, что графиня открыла вам тайну! Она открыла вам тайну! И сейчас вы хотите уйти? Уйти, зная третью карту? Безумец! Играйте! Это, возможно, единственный шанс, который даёт вам судьба. Играйте! Отдайте мне половину, остальное – ваше!
Осторожно, но решительно я высвободил локоть и двинулся от стола, оставив его с выигрышем. Провожаемый восхищёнными и завистливыми взглядами, я шёл напрямую через зал к графине ***.
– Не откажите танцевать со мной, Ваша Светлость, – остановившись перед ней, я склонил голову.
Девицы и приживалки, стоящие вокруг своей барыни, зашушукали, перемигиваясь и пряча улыбки и мелкие смешки в кулачки своих полных розовых рук. Графиня смотрела сквозь меня, и, казалось, перед её выцветшими глазами проплывали видения прошлого, где танцующие пары кружились, кружились, а она лишь смотрела на них со стороны, не вставая с кресла. Внезапно что-то дрогнуло в её лице: она нахмурилась, губы плотно сжались, а взгляд стал осмысленным.
– Ты, что же, шутки вздумал шутить? – спросила она тихо. – Надсмеяться хочешь?! Дурой выставить?!
Я протянул руку, предлагая ей подняться. Она в недоумении склонила голову и посмотрела на мою ладонь. Потом медленно высвободила из-под кружев руку и доверчиво положила свою сухонькую ладошку.
Первый шаг был короток. Оркестр сделал паузу. Графиня перевела дыхание и сделала второй. Музыка отозвалась коротким всхлипом духовых и смолкла. Не дожидаясь следующего шага, она зазвучала вновь, набирая мощь и толкая нас вперёд. Каждый следующий шаг давался всё легче, всё быстрей и быстрей, и вот наша нелепая пара описала круг по зале среди застывшей и с удивлением следящей за нами публики.
– Вы сумасброд! – проговорила графиня, едва справляясь с дыханием и блестя повеселевшими глазами. Мы остановились аккурат возле её кресла. К нам подбежали дамы и девицы, раздались аплодисменты. Барышни наперебой прикладывались к щеке графини своими невесомыми поцелуями; кавалеры слетались со всех сторон бала, припадали на одно колено перед ней, говорили какой-то вздор и милые нелепости; офицеры гремели сапогами, улыбались и крутили ус, громко кашляли от нерешительности и щурили свои геройские карие глаза.
А музыка не смолкала! Она кружила над головами, вихрилась позёмкой по полу, заплетая лёгкие ноги прелестниц и лакированные штиблеты франтов, раздувала румянец девочек, приехавших на первый свой бал, и рождала детские надежды в сердцах вдовцов. Она носилась среди люстр, дробя огни на множество сверкающих кристаллов, металась среди колонн, топтавших «слоновьими ногами» блистающий паркет, и тихо звенела стылым стеклом в окне верхнего пустого этажа. Радость, радость освобождения наполняла сердце!
– Кавалер, Ваша Светлость! – прокричал я графине, силясь перекрыть музыку. – То был кавалер, валет! Третья карта – это валет! Верно?
Я увидел, как медленно и странно поворачивала ко мне свою голову старуха, как ехидно сощурился её левый глаз, как проступили румяна на её щеках. Громко, так что враз всё примолкло, грянул выстрел. В наступившей тишине кто-то крикнул:
– Врача!
Я пошёл не спеша туда, где плеснула паникой и затихла толпа играющих, а застывшие фигуры у карточного стола вздыбились плечами и колючими спинами. Я пересекал залу, и люди отступали, пропуская меня вперёд, – я шёл словно по коридору. В конце этого пути лежал Томский. Тёмное пятно крови липкой кляксой расплывалось на его груди. Я склонился над несчастным. Тело под окровавленной сорочкой уже остывало. Смерть наступила мгновенно. Здесь же лежал револьвер. Я распрямил пальцы убитого – зажатая карта выпала мне в руку. То был валет. Бубновый валет.
* * *
Я выпрямился и, не оглядываясь, вышел вон из залы. Миновав быстрым шагом пустой коридор, я толкнул дверь в самом его конце и очутился, судя по обилию стеллажей с книгами, в библиотеке.
– Браво! – раздалось при моём появлении, и сначала один хлопок, потом другой, а следом уже аплодисменты заплескались меж шкафов и множества полок с книгами.
Прямо передо мной в кругу света стоял Кирилла Иванович и раскланивался. Среди восторгающихся я узнал Горемыкина, потом увидел Анну Леопольдовну, рядом Лизоньку, да вот и Куртуазов стоит рядом.
– Браво! – крикнула Анна Леопольдовна.
– Восхитительно! – вторил ей Горемыкин.
– Ах, как тонко вы ввернули бубнового валета! Мошенник, истинное слово, мошенник этот Paul! – завистливо восхитился Куртуазов.
– А доктор как похож! – взвизгнула остроносенькая Лизонька и захлопала в ладоши.
– А вот и наш доктор! – вскинул руку Кирилла Иванович. И вся толпа радостно бросилась ко мне.
* * *
Заканчивалась странная ночь. Мы с Кириллом Ивановичем одни задержались в трактире. Разъехались по своим домам и давно спали любители словесности, не томясь фантазиями и бессонницей. Заснул и литератор, уронив голову на стол и обхватив себя по-сиротски руками. Я глядел на копну его волос, с проволокой седины, и на душе было пусто и досадно.
г. Санкт-Петербург, зима 1833 – осень 1854
Комментарии Издателя
«…анекдот» – в XIX веке слово «анекдот» имело следующее значение: занимательная история о каком-нибудь известном человеке, необязательно с задачей его высмеять. Под «известным человеком» автор, вероятно, подразумевает себя.
«…Клара Гасуль» – испанская актриса. В 1825 году был напечатан и благосклонно встречен публикой сборник её пьес «Театр Клары Гасуль». Позже выяснилось, что это была литературная мистификация французского писателя Проспера Мериме.
«…акмеисты» – (от греческого «расцвет…») модернистская поэтическая школа, возникшая в России около 1911 или 1912 года под руководством Н. С. Гумилёва и С. М. Городецкого. Идеалами акмеистов были компактность формы и ясность выражения. К акмеистами себя относили также О. Мандельштам, А. Ахматова, Г. Иванов.
«…была поклонницей поэта Надсона» – Семён Яковлевич Надсон, русский поэт и эссеист второй половины XIX века. Был популярен среди антимонархически настроенной молодёжи.
«…рукой Сервантеса» – Мигель Сервантес – автор «Дон Кихота», в 1571 году, находясь на службе в испанском флоте, во время битвы при Лепанто потерял кисть левой руки. Много позже, уже вернувшись в Испанию, оказался в тюрьме, где и начал литературную деятельность.
«…пытал счастье вместе с рыжим инженером, сражался и погибал в отрядах этеристов!» – отсылка к произведениям А. С. Пушкина «Пиковая дама» и «Выстрел», точнее к их героям: военному инженеру Германну и отставному военному, добровольцем воевавшему против турок на стороне греков-этеристов, Сильвио.
«Томский, местный помещик…» – Томский, Графиня ***, Сурин – персонажи повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Редакция вынуждена предупредить читателя, что автор никак не мог встречаться ни с Томским, ни с Графиней *** по той простой причине, что персонажи эти вымышленные. Более того, с автором они никак не могли встретиться в конце XIX века в глухомани Самарской губернии, так как были придуманы и созданы в Болдино Нижегородской губернии в 1833 году. Продолжая знакомство с «творениями» Е. С. Дорна, читатель берёт на себя всю полноту ответственности за последствия.
«…если б он не обдёрнулся на третьей карте» – «обдёрнуться» при игре в карты означает ошибиться, вытащив не ту карту.
«…одной любви музыка уступает…» – цитата из пьесы А. С. Пушкина «Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии».
«…зажатая карта выпала мне в руку. То был валет. Бубновый валет» – на языке французского разговорного обихода, начиная с XVII столетия, «бубновый валет» (valet de carreau) – мошенник, плут, человек, не заслуживающий уважения.
1
(фр.) здесь – элегантный
2
(фр.) – тётушка