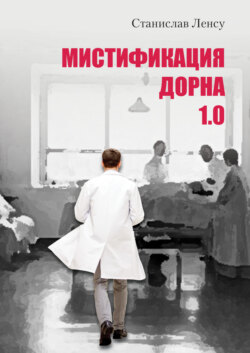Читать книгу Мистификация Дорна. Книга 1 - Станислав Михайлович Ленсу - Страница 7
Дар украденный
ОглавлениеЯ тронул извозчика за плечо, останавливая его на знакомом мне адресе. Здесь начались события, которые сделали меня подозреваемым в убийстве. Правда, сначала я заделался солдатом трагической для всей России войны, потом судьбе было угодно вернуть меня в этот город и стать подозреваемым в убийстве боевого товарища.
Дом и сад за невысоким забором нисколько не изменились. Помнится, у левого угла здания рос куст сирени. Сухие ветви глухо стучали на стылом ветру, а коричневая, словно из обёрточной бумаги, листва никак не хотела облетать. При каждом взмахе метели чёрные тени от куста раскачивались на стене в детской.
В прихожей, всегда тёплой от топившейся беспрестанно в ту зиму печи, висели два зеркала: одно напротив другого. Встав между ними, я мог видеть множащееся бесчисленное количество раз своё отражение. Украдкой, чтобы не заметила прислуга, в каждое посещение я искал глазами самое последнее из них. Они дробились, уменьшались и отдалялись, терялись, и мне порой казалось, что там в глубине уже не я, а кто-то другой смотрит из глубины амальгамы. Смотрит на меня и не узнаёт.
С той поры я ни разу здесь не был. Дом, его обитатели жили своей жизнью, а я – своей. Сколько таких домов на пути врача? Для меня минувшие годы были полны потрясениями, потерями и недолгими радостями. Столько событий! И вот я снова у этой парадной. Вероятно, до сего дня у его хозяина не возникала надобность в помощи доктора. И слава Богу! Что касается до меня, то по некоторым причинам и я не стремился к посещению уважаемого Павла Андреевича Трефилова, присяжного поверенного при окружном суде, надворного советника и вдовца.
Одно время я часто бывал в их доме по врачебным делам. Той зимой было много случаев пневмонии. Многие мои коллеги в этой связи опасались вспышки туберкулёза, но, как оказалось, их опасения были чрезмерны. Так случилось, что Павел Андреевич обратился именно ко мне, поскольку домашний доктор Илья Федорович Анисимов сам слёг в постель и рекомендовал меня в качестве достойной замены. Чему я был несказанно рад и глубоко благодарен пожилому своему коллеге. В те дни я покинул службу земского врача и, оставшись в городе, крайне нуждался в практике.
Дочь Павла Андреевича, Лидочка, ученица седьмого класса женской гимназии, захворала, к несчастью, двухсторонней пневмонией. Я нашёл её в критическом состоянии. Бедная девочка дышала часто и поверхностно. Временами она заходилась от сухого кашля так, что голова её со спутанными русыми волосами отрывалась от подушки, тело сгибалось, а сама она едва не доводила себя до рвоты. Приступ кашля заканчивался тем, что несчастное дитя обессиленно валилось в жаркую свою постель. Безучастное, бледное лицо её едва выделялось на фоне белоснежного белья. Носогубные складки уже приобрели синюшный оттенок, а лоб был покрыт липким, не высыхающим потом. Пульс едва прощупывался, был нитевидным и частым.
Павел Андреевич с трясущимися губами, не сдержав рыдания, вышел из комнаты. Аускультация и перкуссия по методу Шкоды утвердили меня в первом подозрении о наличии пневмонии. Не мешкая, я набрал в шприц камфоры и ввёл маслянистую жидкость под кожу на плече девочки. Когда дыхание её стало более размеренным и глубоким, я велел укрыть больную шубами и раскупорить утеплённые на зиму окна.
Застоявшийся, затхлый воздух сменился морозным, живительным. После проветривания внесли раскалённые камни в железном ящике, укрытом влажной простыней. Комната быстро наполнилась теплом, а воздух приобрёл необходимую влажность. Но девочке не становилось лучше. Её худенькое тельце источало жар. Ни натирание водкой, ни влажные компрессы не давали нужного эффекта. Лидочка умирала.
Сестра Павла Андреевича, старушка во всём чёрном, уже несколько раз подходила ко мне, спрашивая, не послать ли за батюшкой, не пора ли соборовать Лидочку. Я упорно отмалчивался. В эти мгновения, когда черты лица больной стали заостряться, холодное, тёмное сомнение, скрывавшееся до поры до времени в отдалении, вдруг проявилось и начало разрушать мою решимость.
Стряхнув с себя оцепенение, я раскрыл свою сумку и достал пакетик с байеровским порошком. Я знал, что рискую. Знал, что лекарство имеет как целительные, так и пагубные свойства для организма. Ещё Парацельс заметил, что яд может быть лекарством, а лекарство – ядом: все определяет доза вещества. В ту минуту, стоя перед постелью умирающей, я гнал от себя мысль о возможных осложнениях. Ожидаемый мною эффект должен был переломить ход болезни.
Бывают моменты, когда от сострадания врач впадает в отчаяние и в этом ослеплении не совершает тот единственный, за гранью обыденного, шаг, ведущий к спасению. Или к гибели. Шаг дерзновенный, навстречу провидению, оставляющий тебя один на один с Богом. Это и есть шаг за пределы познанного, за грань рационального, за грань самосохранения.
Я высыпал половину пакетика в стакан с тёплой водой и почти силой влил жидкость в рот находящейся в беспамятстве девочки. Когда сумерки затопили комнату, наступил кризис. Лидочка, утонувшая в «сугробах» постели, шевельнулась, вспугнув затаившиеся по углам тени. Открыла глаза, просветлевшие после отхлынувшей мути лихорадки, и попросила пить. В последовавшие две недели она медленно, но упорно выздоравливала. Молодость, питание с козьим молоком, доброе и сочувственное отношение Павла Андреевича брали верх над болезнью, не давая ей расправить свои чёрные крылья и отодвигая тень туберкулёзной инфекции. Как вы могли заметить, радость от одержанной победы подвигла меня на некоторые высокопарные метафоры. Оправданием тому может служить лишь возвышенное состояние моей души, порыв которой на короткий миг слился с предначертанным и вызволил бедное дитя из беды. Да и меня наградил счастьем. Как оказалось, ненадолго.
На Сретенье Павел Андреевич пригласил меня в кабинет, усадил в глубокое кожаное кресло и стал молча прохаживаться за моей спиной. Наконец он сел за письменный стол и тяжело взглянул из-под густых бровей.
– Евгений Сергеевич, – прервал он тягостное молчание, – Лидочка, благодарение Богу, поправляется…
Он снова замялся, отвернувшись в сторону, словно ему невыносимо тяжко было смотреть на меня.
– Милостивый государь, не сочтите за неблагодарность… – голос его звучал непривычно, словно каждое слово вызывало в нём муку, – одним словом, Евгений Сергеевич, дорогой мой, не бывайте у нас!
Он вскочил из-за стола и стал энергично расхаживать на этот раз перед самым моим лицом.
– Не знаю, как вам объяснить! Поймите отца, дорогой доктор! Лидочка – единственное, что держит меня в этой жизни. Софья Никитична, её мать… упокой, Господи, душу её с миром… была моим счастьем и опорой! Господь призвал её к себе. Знаете, Евгений Сергеевич, я было запил, страшно запил! Но Лидочка спасла меня! Дитя неразумное, душенька Лидусик, заново открыла для меня радости жизни. Дорогой мой доктор! Дорогой Евгений Сергеевич, она ведь ещё совсем ребёнок, она дитя бесхитростное и восприимчива к счастью и к несчастию в равной мере! Ваши визиты к ней, ваше участие и слова, обращённые к ней, возбудили в ней нелепую фантазию, романтические чувства! Лидочка влюблена в вас!
Произнеся, наконец, эти тяжкие для него слова, Павел Андреевич замолчал и обессиленно повалился в своё кресло. Для меня его сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. Я и в мыслях не мог представить такого поворота событий. Однако память мне услужливо стала предлагать картинки воспоминаний. Теперь в свете сказанного я увидел их иначе.
Через несколько дней после кризиса, когда к больной вернулись силы, я настоял, чтобы она села в постели и начала делать дыхательную гимнастику. Чтобы преодолеть её апатию, характерную для этого периода выздоровления, я принялся изображать ветер, который гонит по волнам парусник. Надувал щёки и дул на маленький кораблик в тазу с водой, который велел поставить рядом с постелью. Кораблик я смастерил накануне ночью, и он легко, подчиняясь напору выдуваемого мной воздуха, скользил по глади «океана». Лидочка несколько секунд в недоумении смотрела на моё чудачество, потом тихо рассмеялась и присоединилась ко мне, надувая щёки и силясь изменить движение парусника. С тех пор каждую нашу встречу мы начинали с этого упражнения, смеясь и радуясь быстрому скольжению игрушечного судёнышка.
В дальнейшем по мере того, как силы возвращались к ней, Лидочка стала вставать, чтобы делать несколько шагов по комнате. И всякий раз она была одета в красивый в своей простоте халат. Теперь я вспоминаю что, осматривая её, я замечал, как тщательно причёсана она бывала, как волосы её были схвачены цветной лентой или красивым гребнем. Мне и в голову не приходило видеть в этом нечто большее, чем стремление к опрятности. Она вспыхивала и мучительно краснела, а не оформившееся девичье тело вздрагивало от каждого моего прикосновения, когда я проводил аускультацию или перкуссию лёгких. Временами я ловил на себе её долгий взгляд, значения которому на тот момент не придавал, но теперь, сидя напротив Петра Андреевича, я чувствовал смущение и невнятное чувство вины. Я решительно поднялся.
– Милостивый государь Павел Андреевич, извольте не беспокоиться. Лидочка поправилась. В моей помощи она более не нуждается. Я пришлю свои рекомендации по гимнастическим упражнениям и по рациону питания. Советовал бы летом свозить её на воды. Лучше в Ялту или Гурзуф. Уверен, вы найдёте нужные слова, чтобы объяснить Лидочке прекращение моих визитов. Не утруждайтесь меня провожать. Всего наилучшего.
Я откланялся и вышел. В прихожей, вспомнив, что именно сейчас Лидочка ждёт, что я зайду, я замешкался, стоя меж двух зеркал. В тот момент было недосуг разгадывать свои отражения. Мне представились её светлая комната, она, сидящая на стуле в цветастом платьице и со сложенными на коленях ладонями, её обращённые ко мне зелёные глаза и обезоруживающая юношеская откровенность во взгляде. Я схватил галоши и выбежал вон.
* * *
Спустя годы я снова стою у парадной. Швейцар, лицо которого было мне незнакомо, распахнул зеркальные двери и безразлично поклонился кивком головы.
Накануне вечером, получив записку от Павла Андреевича с приглашением, я некоторое время колебался. Прошло меньше суток после моего возвращения. Путь в город и само путешествие были долгими, многотрудными, и мне хотелось какое-то время побыть одному, отдохнуть. Однако просительный тон и обращение «дорогой Евгений Сергеевич» принудили меня нанести визит, не откладывая, как того и просили.
В прихожей, раздевшись, я, признаться, ожидал, что Павел Андреевич выйдет ко мне. Напрасно. Послышались шаги, тяжёлая штора раздвинулась, и в проёме двери появилась молодая женщина. Не вглядываясь в её черты, я отчего-то моментально понял, что передо мной повзрослевшая Лидочка.
– Здравствуйте, Евгений Сергеевич, – её голос сохранил прежние интонации, но звучал ровно и без прежней сердечности.
Я поклонился:
– Лидия Павловна, здравствуйте.
В эту минуту я пожалел, что оделся не так тщательно, как сейчас хотелось бы, не сбрил куцую свою бородку, появившуюся во время плавания, что голос мой звучал хрипло после холодных ветров и несчётного количества выкуренных папирос.
Тем временем мы шли по коридорам.
– Папа не здоров и предпочитает проводить время в кабинете, – пояснила она и, стукнув в дверь предупреждая, впустила меня. С тех пор, как мы виделись с ним, господин Трефилов сильно сдал. Щёки его обвисли, волосы поредели и подёрнулись сединой, словно пеплом, плечи ссутулились. Он полусидел на кушетке и, когда мы вошли, читал. Он отложил книгу в сторону и снял очки.
– Евгений Сергеевич? – он близоруко прищурился в мою сторону, – присаживайтесь, любезный Евгений Сергеевич. Лидочка, вели принести нам хересу.
Я сел. Спустя минуту вернулась Лидия Павловна и молча села в отдалении.
– Евгений Сергеевич, благодарствуйте, что пришли не мешкая. Есть обязательства, которые следует выполнить загодя. Вот я вам отчёт сейчас, не сходя с места, и дам.
– Помилуйте, Павел Андреевич, – воскликнул я удивлённо, – какой отчёт и в чём?
– Как же, как же, – хозяин дома обеспокоенно завозился на кушетке, спустил ноги и уселся покрепче, откинувшись на невысокую спинку.
– Как же, Евгений Сергеевич, вспомните! Год тому назад, накануне вашего отъезда, мы виделись в окружном суде. Вы поджидали меня после завершения прений. Я прекрасно помню это дело, судили чиновника Сырцова за кражу казённых денег. Вы подошли ко мне и…
Рассказ Павла Андреевича Трефилова
Я вышел из зала заседания, где было невероятно душно и жарко, и поспешил к открытому во двор окну. С наслаждением подставил свое пылающее лицо лёгкому ветерку, исходящему от тенистого уголка за высокими кустами сирени, и прикрыл глаза.
– Павел Андреевич, – окликнул меня незнакомый голос.
Я, досадуя, обернулся.
Передо мной стоял среднего роста господин, одетый просто, но не без изящества и вкуса. Он мял в руках шляпу и чувствовал себя неуверенно. На вид он был лет тридцати пяти, т. е. уже в возрасте, но полный сил и здоровья. Выбритое лицо его было несколько вытянуто книзу, голубые пронзительные глаза оживляли его малоинтересные черты.
– Павел Андреевич, – повторил он, – признаться я надеялся, что вы узнаете меня. Я – Дорн, Евгений Сергеевич, доктор.
«Боже мой! Как неловко! Как я мог не признать человека, который спас мою единственную дочь. Пусть это и было несколько лет тому назад, и Лидочка уже превратилась в барышню, и многое произошло с тех пор, но мне непростительно и в высшей степени неблагодарно забыть её спасителя», – скажу откровенно, я даже покраснел от неловкости, в которую сам себя и поставил.
– Евгений Сергеевич, любезнейший наш исцелитель! – воскликнул я, горячо пожимая его руку, – прошу простить покорно, что не сразу вас признал. Всему виной духота и скверная речь прокурора, – попытался я сгладить возникшую холодность.
Мы прошли в служебное помещение, предназначенное для судейских чиновников и сели на стулья возле пустующего стола.
– Как поживаете, милый доктор? – искренностью я хотел вернуть дружественность, которая установилась меж нами во время болезни Лидочки.
– Благодарю вас, Павел Андреевич, – улыбнулся тот в ответ, – вот, видите ли, отправляюсь в долгий путь, в морское путешествие. Можно сказать, океаническое. Оно займёт месяца три. В связи с чем решил обратиться к вам с просьбой, которая, надеюсь, не очень вас обременит.
– Конечно, конечно, мой друг! Все, что в моих силах, как говорится, je suis votre disposition[3]!
Евгений Сергеевич кивком поблагодарил и приступил к изложению просьбы:
– Мой товарищ по Маньчжурской кампании после долгого лечения в госпитале поселился в нашем городе, – начал он.
– Помилуйте, доктор! – прервал я его. – Как, вы воевали? Вы воевали в Маньчжурии?! Я всегда считал вас сугубо гражданским человеком, Евгений Сергеевич!
Недоверчиво и в некотором недоумении я смотрел на него. Он улыбнулся и вздохнул. Вероятно, я затронул не самые лучшие его воспоминания и уже раскаивался в своей бестактности, но доктор пояснил:
– Я пошёл добровольцем, и в качестве вольноопределяющегося был приписан лекарем к дивизии генерала Гернгросса.
Он провёл пальцами по лбу несколько раз, словно пытался стереть свои мысли о прошедшем, и добавил:
3
(фр.) – я вашем распоряжении, располагайте мной