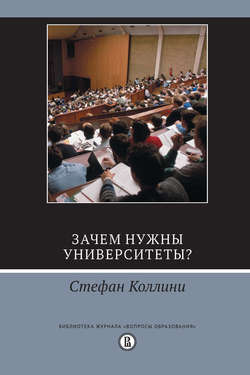Читать книгу Зачем нужны университеты? - Стефан Коллини - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
II. Университеты в Британии: очень краткая история
3
ОглавлениеВо время Французской революции на Британских островах существовало несколько университетов – два в Англии (Оксфорд и Кембридж), четыре в Шотландии (Эдинбург, Глазго, Сент-Андрус, Абердин) и один в Ирландии (Тринити-колледж в Дублине). Почти все они располагали большей независимостью от государства, чем тогдашние французские или германские образцы, хотя обычно были теснее связаны с официальными церквями, чем их континентальные аналоги. В первые десятилетия XIX в. именно почтенные шотландские университеты, опираясь на местные демократические традиции и всячески подчеркивая профессиональные исследования в таких сферах, как право и медицина, показали наиболее убедительные интеллектуальные результаты. В Англии в 1820–1830-х годах к ним добавились два новых колледжа (Университетский колледж и Королевский колледж) в Лондоне и еще небольшой англиканский форпост в Дареме, однако в целом сонную монополию Оксфорда и Кембриджа никто серьезно не тревожил. Именно в середине и к концу викторианского периода были сделаны два судьбоносных шага, которые определили развитие университетов в Британии почти на 100 лет. Во-первых, прошли реформы колледжей Оксфорда и Кембриджа, которые издавна были чем-то средним между приятными клубами для сыновей землевладельческих классов и семинариями для англиканской церкви. Верх взял идеал общественного учебного заведения как места формирования характера; в программы ввели такие «современные» предметы, как история, естественные науки и современные языки; сформировалось новое самосознание, связанное с обучением будущего класса руководителей и чиновников; университеты стали больше восприниматься в качестве элемента национальной культуры. Во-вторых, в 1870–1880-х годах были созданы новые институты в городах, которые выросли в результате индустриализации, в частности в Бирмингеме, Манчестере, Лидсе, Шеффилде и Ливерпуле. Первоначально эти колледжи являлись плодом местных инициатив и нацеливались на удовлетворение местных потребностей; они не боялись учить таким практическим предметам, как «коммерция», наряду с традиционными учебными курсами; многие из их студентов жили дома, а некоторые были женщинами. Для оправдания этих институтов потребовалась другая «идея» университета. В качестве главного юридического механизма, посредством которого государство одновременно контролировало и освобождало университеты, сохранилась «королевская грамота», признающая и легитимирующая их статус, но также гарантирующая им определенный уровень самостоятельности.
Итак, к началу ХХ в. к числу британских университетов относились институты по меньшей мере трех разных типов, даже если не брать разнообразные медицинские школы, педагогические колледжи и многочисленные церковные, добровольческие и профессиональные учреждения. Одна модель была оксбриджской: с постоянным проживанием студентов, семинарскими занятиями и формированием характера как целью. Другая – шотландской/ лондонской: столичной, профессорской, меритократической. Наконец, третья модель была «гражданской» (или, как стали говорить позже, «краснокирпичной»): местной, практичной, нацеленной на карьеру.
Уже с первых лет ХХ в. заработала та диалектика, которой суждено было стать одной из главенствующих в развитии британского высшего образования сил, которая, по крайней мере отчасти, определялась снобизмом: институты новых и иных типов все больше сторонились своих отличительных черт и все больше уподоблялись господствующему в культурном отношении образцу. Так, гражданские университеты постепенно утратили свой местный и практичный характер: в них строилось все больше общежитий для студентов из других частей страны, утвердилась традиционная иерархия предметов, футбольные площадки стали считаться существенным элементом университетского образования, что является историческим курьезом, который, с точки зрения Берлина или Парижа, и сегодня представляется англосаксонской причудой. Такая закономерность воспроизводилась и в случаях с другими, появившимися относительно недавно университетами: сперва в 1940–1950-х годах с бывшими местными колледжами, в которых присуждались внешние лондонские степени (например, колледжами в Халле, Лестере, Нотингеме, Рединге, Саутгемптоне); затем в 1960–1970-х годах с Колледжами передовых технологий (в Брэдфорде, Брунеле, Лафборо, Солфорде и Сарри); наконец, в 1980–1990-х годах с политехническими институтами. Вектор всегда был направлен к национальному, а не местному институту; к предложению полного спектра учебных предметов; к присуждению научных степеней, получаемых как после завершения студенческой программы обучения, так и после аспирантуры; к поддержке как исследований, так и преподавания; к обладанию автономией и престижем, которые традиционно связывались со старыми университетами (хотя в последние годы они их быстро теряли).
При всем этом в первые несколько десятилетий ХХ в. число университетов в Британии росло медленно; накануне Первой мировой войны через них проходило менее 2 % населения. В основной своей массе они не привлекали к себе внимания прессы, а многие недавно созданные гражданские заведения были небольшими по размеру и достаточно хрупкими. Кроме того, государство вплоть до периода после окончания Первой мировой войны прямым финансированием университетов занималось лишь в редких случаях; они были либо независимыми фондами с собственным капиталом, либо плодом местных инициатив и финансирования, либо зависели от платы за обучение (наконец, они могли совмещать все эти варианты, что бывало довольно часто). Только в 1919 г. была создана организация для распределения небольших вспомогательных грантов, которые государство начало предоставлять некоторым институтам. Она получила название «Комитет по распределению субсидий университетам» (University Grants Committee, UGC) и, по существу, была инструментом защиты автономии университетов, поскольку позволяла небольшой группе, состоящей преимущественно из заслуженных академиков, играть роль посредника, который давал правительству советы относительно потребностей университетов и распределял те суммы, которые казначейство готово было выделить на эти цели. Они были невелики: в 1930-х годах ежегодные субсидии всем университетам в Британии составляли лишь около 2 млн фунтов стерлингов. Но после 1945 г. темпы роста быстро ускорились, а поскольку государство все больше финансировало университеты, оно, естественно, все чаще стремилось утвердить свою волю. В изменении ландшафта высшего образования в последние десятилетия свою роль сыграли три основные силы, и не только в Британии, хотя здесь этот процесс протекал в особой форме. Первая – это взрывной рост числа студентов; вторая – огромное расширение научных исследований; а третья – политическая идеология.
Достаточно красноречива уже статистика, отображающая количественный рост. В 1939 г. в 21 заведении университетского уровня в Британии обучалось 50 тыс. студентов (все эти числа спорны; даже сегодня сложности с дефинициями препятствуют попыткам представить согласованные статистические данные). В период послевоенного роста эта величина более чем удвоилась и составила к 1961 г. 113 тыс. человек. Затем темпы роста резко выросли. Многие люди, включая тех, кто любит рассуждать об университетах, по-прежнему думают, будто новые «стеклянные» университеты 1960-х годов (в Сассексе, Йорке, Эссексе, Восточной Англии, Уорике, Кенте и Ланкастере) были созданы как результат знаменитого «Доклада Роббинса» (доклада комиссии по будущему университетов под председательством Лайонеля Роббинса), однако элементарная хронология показывает, насколько это далеко от истины. В конце 1950-х годов Комитет по распределению субсидий университетам (UGC) принял первоначальное решение по созданию новых университетов, и первый из них, Сассекский, открыл свои двери в 1961 г.; Комиссия Роббинса представила свой отчет только в 1963 г. Также следует вспомнить, что, хотя многие из этих новых университетов внедряли (если использовать выражение из манифеста Университета Сассекса) «новую карту обучения», т. е. пробовали различные способы отойти от системы, в которой студенты получали диплом на факультетах, где специализировались в каком-то одном предмете, сами институты задумывались в соответствии с вполне традиционной логикой. Они были небольшими и с высоким конкурсом; с общежитиями, построенными на зеленых лугах близ привлекательных английских городов, являвшихся региональными центрами (а не в центре крупных городов); с большим акцентом на традиционной идее тесного педагогического и социального контакта между студентами и преподавателями (а некоторые даже следовали оксбриджской модели «колледжей»); наконец, первоначально они были нацелены на «либеральное образование» в искусствах и точных науках. Эта привычная идентичность в целом закрепилась, когда через два года после «Доклада Роббинса» Энтони Кросланд, тогдашний министр образования, сформулировал то, что стало называться «бинарным принципом», согласно которому следует развивать два разных, но параллельных друг другу типа высшего образования: традиционный вид образования в университетах и более ориентированное на профессиональное обучение и на нужды общества образование в политехнических заведениях.
Также часто забывают о том, что, если говорить о числе институтов, ситуация, сложившаяся к концу 1960-х годов, оставалась без изменений на протяжении более двух десятилетий. В период с 1969 по 1992 г. не было основано ни одного нового университета (не считая исключительного и во многих других отношениях Нового университета Ольстера). Однако число студентов быстро росло: к 1980 г. было примерно 300 тыс. студентов в 46 университетах, причем на каждый год планировался все больший набор. Однако в 1992 г. переопределение бывших политехнических институтов сразу же почти удвоило количество университетов (38 бывших политехнических институтов со временем получили статус университетов), а после 2000 г. более 30 других институтов, в основном бывших колледжей высшего образования, также получили официальное звание университета. Все эти учреждения, особенно в прошлое десятилетие, находились под постоянным политическим и финансовым давлением, заставлявшим набирать все больше студентов, в результате чего их общее количество перевалило за два с четвертью миллиона человек, обучающихся примерно в 130 заведениях университетского уровня (примерность, как обычно, связана с вопросом классификации). Эти общие величины скрывают особенно сильный прирост аспирантов, а также учащихся всех уровней на вечерних или заочных отделениях; в последние три десятилетия число аспирантов выросло с 60 тыс. до 530 тыс. человек, а число вечерников и заочников, которые в прошлом в университетах были редкостью, сегодня составляет более 885 тыс. человек. Но эти цифры, в свою очередь, не отражают широкое вовлечение в систему образования женщин, которое было осуществлено за последние 50 лет, так что сегодня студенток чуть больше, чем студентов. Почти неизбежным результатом стало то, что соотношение преподавателей и студентов за последние три десятилетия сильно изменилось (от абсолютного рекорда, составлявшего 1:8, до 1:22, если верить некоторым расчетам, хотя такие средние показатели не отражают значительных локальных колебаний), что привело к тревожному во многих отношениях уменьшению числа «контактных часов» и внимания, уделяемого каждому студенту.
В тот же самый период ряд университетов были преобразованы так, что ныне многие из них являются в первую очередь центрами научно-технологических исследований, а также все больше – профессионально-технического и специального обучения. В 1930-х годах половина студентов в британских университетах обучалась на факультетах «искусств»; еще более поразительно то, что в Оксфорде и Кембридже их доля составляла соответственно 80 и 70 %. В 2009 г. обучающиеся по чисто «гуманитарным» специальностям (здесь снова возникают проблемы классификации) составляли лишь около 11 % студентов и 9 % аспирантов в британских университетах, хотя более широкая классификация «искусств, гуманитарных и социальных наук» дала бы намного большую величину. Процент изучающих «чистые» науки значительно вырос с 1930-х годов, однако по-настоящему огромный прирост был зафиксирован в последние пару десятилетий среди профессионально-технических и «прикладных» специальностей. Несколько иллюстративных значений помогут прояснить масштаб этих изменений. Двумя наиболее популярными предметами среди «искусств» остаются, как и прежде, английский язык и история: в 2009 г. 60 тыс. человек изучали первый, а 52 тыс. – вторую (считая студентов и аспирантов вместе). В том же году 131 тыс. человек изучали право, 148 тыс. – инженерию, 293 тыс. – «предметы, связанные с медициной» (не считая, соответственно, тех, кто получал медицинскую степень, т. е. еще 63 тыс.), а 330 тыс. – абсолютный рекорд всех времен – изучали предпринимательство и бухгалтерский учет. Следовательно, если выражаться мягко, мы довольно-таки далеко ушли от ньюменовской идеи университета, так что в публичных спорах о высшем образовании часто заметна недостаточная осведомленность о размахе недавних трансформаций.
Наряду с этими процессами произошли довольно примечательные изменения в масштабе и статьях расходов университетов, прежде всего совокупных расходов на исследования, которым отдан приоритет перед преподаванием. Огромный прирост расходов на «большую науку» и поразительное расширение границ тех же биологических исследований означают, что научный бюджет достиг сегодня миллиардов, по сравнению с которыми поистине карликовыми выглядят суммы, расходуемые на гуманитарные и социальные науки (например, совокупный бюджет семи научных советов Великобритании составляет приблизительно 3 млрд фунтов стерлингов, но только 3 % этой суммы идет «Совету по искусствам и гуманитарным наукам»). Государственное финансирование высшего образования сегодня в значительной мере сфокусировано на поддержке науки, медицины и технологии, так что на соответствующие факультеты приходится львиная доля текущего бюджета любого отдельно взятого университета. И вряд ли удивительно то, что так много позиций системы финансирования, в которой сегодня работают университеты, начиная с зависимости от получения крупных грантов коммерческих или благотворительных спонсоров и заканчивая категориями «Программы оценки качества исследовательской работы» (Research Assessment Exercises), должно отражать экономический престиж естественных наук.
Изменения в двух этих направлениях были кумулятивными и лишь отчасти целенаправленными. Часто их вообще никто не замечал. Однако влияние политической идеологии, особенно если смотреть изнутри университетов, было наиболее важным, запрограммированным и одновременно спорным. Вплоть до конца 1970-х годов университеты расширялись на основе того, что можно было бы назвать «моделью распространения культуры в государстве всеобщего благосостояния». Если говорить об искусствах, то традиционная форма определенного культурного блага должна была становиться доступной все большему числу людей, что обеспечивалось поддержкой государства. «Культура» считалась противоядием или убежищем, позволяющим спрятаться от неприятного давления экономической жизни, так что от университетов ждали, что они станут светочами культуры. У этой модели была своя патерналистская составляющая – мандарины знали, чего стоило иметь больше, а чего нет, независимо от того, что именно хотели обычные люди. Кроме того, она скрыто субсидировала средний класс, который и был в основном в выигрыше от расширения университетского образования до 1990-х годов. Но также она была глубоко укоренена в британских социальных установках, и, хотя потрясения, пережитые британской экономикой в 1960–1970-е годы требовали периодических перенастроек университетского финансирования, последние почти не затронули принципы, управляющие этой моделью.
Позже четыре даты обозначили этапы просчитанного наступления правительств тори на институты, которые они считали дорогостоящими, самовлюбленными, надменными и строптивыми. В 1981 г. было проведено чудовищное сокращение университетского финансирования, и цель в этом случае почти не скрывалась – подорвать рациональное планирование и моральный дух. Если считать по всей системе в целом, сокращение составило порядка 11 %, но в некоторых местах оно было намного больше: в нескольких университетах, включая один-два наиболее уважаемых, произошло внезапное уменьшение финансирования где-то на 20 %, а в Университете Солфорда (одном из прежних Колледжей передовых технологий, которые вызывали улыбку во времена Гарольда Вильсона и Ч. П. Сноу) бюджет урезали более чем на 40 %. Вторая важная дата – 1986 г., когда была опробована первая «Программа оценки качества исследовательской работы», детище тогдашнего председателя UGC сэра Питера Суиннертона-Дайера. Программа стала попыткой измерить качество исследований, проводимых на разных факультетах. Предполагалось, что итоговый рейтинг определит величину «исследовательской» составляющей в блочной субсидии, выделяемой каждому конкретному университету. Это был главный шаг ко всепожирающей культуре аудита, которая с тех пор внесла столь примечательный вклад в превращение университетов в места, менее пригодные для мышления и обучения. Третья дата – 1988 г., когда был принят «Большой закон об образовании». Этот закон, помимо прочего, менял правовой статус постоянной штатной должности и упразднял UGC, на место которого ставились финансирующие организации, обязанные напрямую реализовывать стратегии сменявших друг друга правительств – в основном за счет привязки субсидий к выполнению различных реформ или строго определенных целевых показателей. Четвертой датой стал 1992 г., когда вступил в силу закон, позволявший политехническим институтам становиться университетами, чем гарантировалось то, что стратегия управления сильно выросшим университетским сектором будет основываться на низкозатратных моделях «массового» образования, в меньшей степени завязанных на статус, который ранее обосновывался исключительностью или историческими обстоятельствами. (Например, 18 из 25 крупнейших по числу студентов университетов Британии 2009 г. – это бывшие политехнические институты, первоначально призванные удовлетворять потребности, весьма отличавшиеся от тех, которым уделялось внимание в традиционных университетах.) В общем университеты, даже самые престижные из них, оказали на удивление мало сопротивления этим переменам, кланяясь всякий раз, когда мимо проходили господа, распоряжающиеся финансированием.
В 1980-х и начале 1990-х годов правительства Тэтчер и Мейджора нарастили количество студентов, не обеспечив его соответствующими вложениями в университеты и осознанно понизив «себестоимость единицы» высшего образования. Также они попытались навязать особую концепцию «эффективности», которая предполагала изменения в руководстве, позволяющие приблизить университеты к предпринимательской модели хорошо управляемой коммерческой компании (хотя в мире предпринимательства представление о вертикальной модели во главе с исполнительным директором в эти времена все чаще критиковалось). Таким образом, университеты, пройдя длинный путь и попробовав себя в роли семинарий, пансионов, колледжей государственных чиновников, хранителей культуры, воспитателей гражданского чувства и центров научных исследований, должны были теперь стать ООО. После 1997 г. правительства Блэра пытались сгладить последствия длительного недофинансирования, хотя новые деньги часто жестко привязывались к строго определенным целям и, в частности, к продолжению «реформы» (по вопросу введения «дополнительной» платы за обучение см. далее главы VIII и X).
Когда идут такие процессы, невозможно просто сказать, что университеты – это автономные организации и то, что происходит внутри них, вообще не дело государства. Представление о такой автономии показалось бы достаточно странным едва ли не в любой из моментов истории университета, будь то в Англии периода Возрождения, Германии XVIII в. или, если уж на то пошло, в современной Франции. Верно то, что у Британии есть давняя традиция предоставления различных функций независимым, местным, добровольческим организациям, у которых затем складывается подозрительное отношение к государственному «вмешательству» и сопротивление ему. Но даже колледжи Оксфорда и Кембриджа, главные примеры юридически самостоятельной корпорации такого рода, исследовались, а потом и реформировались несколькими Королевскими комиссиями во второй половине XIX в.: их принудили к надлежащему использованию фондов и к переориентации предлагаемого ими образования на общенациональные идеи, как они понимались в те времена (в частности, на обучение управленческого класса). А там, где государство бралось заказывать музыку, и музыка получалась соответствующая. UGC выступал полезным буфером, отсрочив полную реализацию последствий этой логики вплоть до последних десятилетий ХХ в., однако давно уже ясно, что университеты не могут иметь и то, и другое: если они хотят получать достаточно щедрую финансовую поддержку от действующего в каждый конкретный период правительства, значит, они должны согласиться отвечать перед этим правительством и следовать его концепции, отражающей предпочтения электората. Соответственно, в течение некоторого времени две чаще всего формулируемые цели официального политического курса состояли в том, чтобы, во-первых, заставить университеты отвечать на нужды экономики и, во-вторых, расширить университетскую сферу в целом, благодаря чему можно достичь «истинно демократического включения» и одновременно большей «социальной мобильности».
Как отмечали многие комментаторы, решения и принципы, которые могли бы хорошо работать, когда в университет шли примерно 6 % возрастной когорты (доля, соответствующая середине 1960-х годов), обязательно откажут в тот период, когда в университеты пошли 45 %. Полвека назад университеты пользовались в культуре общим уважением, некоторое влияние сохраняли и представления об образовании, подходящем для тех, кому предстояло занять «руководящие позиции» в обществе. Обычаи социальной элиты, пусть и несколько разбавленные, все еще могли казаться неотъемлемым элементом университетского образования, а не случайными внешними атрибутами, пусть и обусловленными историей. Драматические изменения в Британии и других сравнимых с ней обществах в последние десятилетия ХХ в., особенно увеличение благосостояния и повышение уровня равенства, поставили под вопрос многие из этих посылок, касающихся университета. Трехлетний курс по искусствам или науке для людей, достигших 18 лет, с проживанием в кампусе университета, специализацией в каком-то одном предмете и экзаменами уже не является единственной моделью, и очень скоро он может оказаться весьма далеким от господствующей в этой стране формы высшего образования. Как я уже отмечал, большинство студентов в значительной части британских университетов ныне изучают профессионально-технические и специальные предметы, многие из них учатся на вечерних или заочных отделениях, а также являются «студентами зрелого возраста». Кроме того, большинство крупнейших университетов (если считать по количеству студентов) сегодня представляют собой так называемые исследовательские институты; они развились из бывших политехнических институтов или колледжей высшего образования с иным кругом задач и иной культурой. (Если бы в общественных дискуссиях наконец осознали действительный масштаб сегодняшней системы британского высшего образования, это могло бы принести кое-какую пользу – в некоторых средствах информации перестали бы чересчур пристально интересоваться исключительно Оксфордом и Кембриджем.)
Теперь, после этого периода огромных исторических изменений, одна из задач, стоящих в начале XXI в. перед системой высшего образования Британии, заключается в том, что надо решить, в какой мере все эти институты, называющиеся университетами, должны стремиться предоставлять один и тот же спектр учебных программ и вести одну и ту же работу на одном общем уровне. Аналогии с системами других стран могут быть опасными, и в любом случае нам надо начинать с того места, в котором мы очутились, однако одной из наиболее интригующих и часто обсуждаемых иностранных моделей был по большей части реализованный план Кларка Керра по созданию трех основных уровней высшего образования в Калифорнии: на нижнем уровне находятся местные колледжи, затем идут государственные университеты Калифорнии с большим набором студентов, а на самой вершине – кампусы Университета Калифорнии (включая Беркли и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе).[11] Одна из черт этой системы, как и американского высшего образования в целом, состоит в том, что она заботится о мобильности студентов, их способности переходить из института одного типа в другой и потому допускает второй (а также третий, четвертый и т. д.) шанс, а в этом, так уж исторически сложилось, Британия не может похвастаться достойными результатами. Калифорнийская система проектировалась как социально инклюзивная в плане возможностей, но при этом строго иерархическая в плане интеллектуальных амбиций. Конечно, в ней есть свои проблемы, и невозможно поставить одну систему в точное соответствие с другой, однако этот пример дает кое-какие ориентиры касательно структуры высшего образования, которая смогла быть одновременно просвещенной и диверсифицированной, причем в последние годы она своим горьким опытом предупредила нас о том, насколько уязвимы могут быть финансируемые государством системы перед изменчивым настроением электората и его политических представителей.
Возможно, через подобную диверсификацию британским университетам еще предстоит пройти. Может статься, что не всем им имеет смысл предлагать, скажем, докторские степени по всем или большинству традиционных академических дисциплин, содержать чрезвычайно дорогие медицинские или инженерные школы или же предлагать дипломы по разнообразным вспомогательным специальностям в сфере социальных услуг. Возможно, некоторым университетам стоит выбрать лишь несколько дисциплин для преподавания, а другим – больше сфокусироваться на вечерниках, заочниках или «вернувшихся» студентах либо на курсах повышения квалификации для уже работающих специалистов. Третьим следует больше переориентироваться на нужды местных сообществ и т. д. В то же время должны диверсифицироваться и режимы финансирования. Может быть, ценность разных типов обучения должна найти большее отражение в категориях, в коих измеряется «успех», что позволит лучше их вознаграждать. За насмешками над «несерьезными предметами» скрывается мешающий изменениям снобизм, ведь такие курсы могут быть социально ценными формами прикладного или профессионально-технического обучения, но не меньше мешает и перевернутый снобизм, выражающийся в презрительном отношении к «бесполезным» или «бессмысленным» предметам, так как последние включают те формы интеллектуального исследования и академической работы, которые в социальном плане не менее ценны. Следовательно, то, что, возможно, уместно в качестве способа оценки и финансирования исследований в некоторых из прикладных наук, имеющих непосредственную экономическую отдачу, просто не сработает в гуманитарных науках (на самом деле, как я буду не раз указывать в этой книге, вызывает сомнение даже то, действительно ли к ним можно применять термин «исследование», не делая никаких оговорок). Все это в высшей степени практические материи, и в каких-то случаях они определяются сложными финансовыми формулами, а также паутиной требований по мониторингу и нормам. В этой книге я не пытаюсь представить проработанные практические альтернативы, но предполагаю, что, если у политиков и чиновников не будет грамотной концепции деятельности, которую они пытаются финансировать и регулировать, их меры обязательно нанесут ущерб тем самым вещам, которые они, по их собственным заверениям, стремятся поддержать.
Правда в том, что изменения ландшафта высшего образования, произошедшие в последние пару десятилетий, были, по существу, изменениями не в самой академической деятельности и науке, а в том, как университеты управляются, финансируются и контролируются обществами, которые их содержат. Общественные споры сосредоточены преимущественно на этих последних аспектах, отчасти именно потому, что их легко понять и обсуждать в отличие от основных форм интеллектуальной деятельности. Следовательно, нам нужно перейти к рассмотрению, во-первых, характера именно этих форм, поскольку в конечном счете они-то как раз и определяют суть университетов и их отличительные черты; а во-вторых, обоснованности различных утверждений касательно функций управляющих институтов, которые в настоящее время концентрируют на себе внимание общества. Затем мы, возможно, сумеем понять, как же так получилось, что постоянно нарастающая волна политических и медийных дискуссий вокруг данной темы почти не дает нам ответов на вопрос, зачем нужны университеты.
11
Gonzalez C. Clark Kerr’s University of California: Leadership, Diversity, and Planning in Higher Education. New Brunswick, NJ: Transaction, 2011.