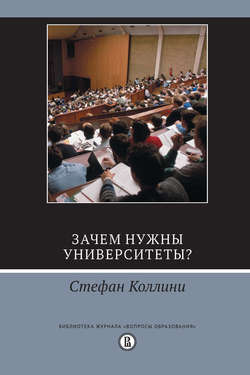Читать книгу Зачем нужны университеты? - Стефан Коллини - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
I. Глобальный мультиверситет?
3
ОглавлениеНо можно ли и в самом деле сохранить эту главную цель, когда мир, в том числе и высшего образования, так быстро меняется? Рано или поздно этот вопрос, поставленный в той или иной форме, потребует ответа: осознание ускорившегося ритма социально-экономических изменений является, судя по всему, одной из определяющих характеристик современной рефлексии. В действительности нечто похожее можно было сказать и о прежних поколениях; они тоже думали, что в их эпоху изменения ускорились, а потому старые истины были поставлены под сомнение. Тем не менее к этому вопросу сначала нужно подойти без оглядки на подобные сравнения. Если мы спрашиваем, зачем нужны университеты, не следует ли нам признать, что их цель и природа радикально изменились под воздействием глобализации? Не должны ли мы перестать мыслить в категориях европейского идеала XIX в. и сосредоточиться, напротив, на том, почему наиболее мощной реализацией идеи университета в XXI в. становится азиатское воплощение американизированной версии европейской модели, так что на первый план выходят технологические, медицинские и бизнес-школы?
Повсеместно внедрившаяся привычка приставлять прилагательное «глобальный» к самым разным существительным часто указывает всего лишь на расхлябанность мысли и модную шумиху. Это слово стало считаться более громким синонимом термина «международный». Однако его все же можно спасти и привлечь к честному труду. Есть определенный смысл в описании некой закономерности или процесса как «глобальных», когда обнаруженные транснациональные сходства являются достаточно распространенными и в то же время рассматриваются как результат использования общих принципов, особенно проистекающих из экономического развития. Поскольку академические исследования и наука представляют по сути своей наднациональные формы деятельности, никогда не было недостатка в примерах того, как университеты в одной стране учились у университетов другой или подражали им, а с конца XIX в. само существование европейских империй определяло перенос выработанных в Европе моделей в другие части света. Однако относительным новшеством, появившимся лишь в последние два десятилетия XX в. и ставшим еще более выраженным в первые десять лет XXI в., является изменение масштаба высшего образования почти во всех «развитых» (и некоторых «развивающихся») странах наряду с одновременным внедрением схожих организационных и финансовых инструментов, расходящихся с национальными традициями, а в некоторых случаях обозначивших и отказ от них.
В одном недавнем сравнительном исследовании были выявлены главные черты этого изменения, составившие два списка (с неизменным выделением буллитами), в которых перечислены силы, действовавшие в системах высшего образования в середине XX в. и в наше время. Не все пункты представляются одинаково важными или правильно сформулированными, но общий смысл противопоставления вполне ясен и поучителен.
Первый список, озаглавленный «Основные силы, влиявшие на высшее образование 50 лет назад»:
• Первоначальная эпоха формирования систем массового высшего образования.
• Высшее образование, считающееся в целом общественным благом.
• Ограниченное внедрение международных моделей и практик высшего образования – высшее образование как продолжение национальной культуры.
• Национальные и региональные рынки студентов и институционального престижа.
• Высокая институциональная автономия – ограниченные меры отчетности.
• Государство как партнер сообщества высшего образования.
• Национальная аккредитация и аудит качества.
• Традиционная педагогика – ограниченное внедрение технологий.
• Существенные государственные субсидии.
• Небольшой коммерческий сектор – в основном в США.
• Зарождение активного научного сообщества.
• Ограничения межнационального переноса знаний и коммуникаций.
Второй список озаглавлен «Новая глобализация», в нем сравнение идет по тем же пунктам:
• Зрелая эпоха систем массового высшего образования в большинстве развитых стран.
• Высшее образование, все больше считающееся частным благом.
• Растущее международное внедрение и конвергенция практик и моделей высшего образования – высшее образование как продолжение глобализации.
• Растущий международный и наднациональный рынок студентов и институционального престижа.
• Упадок институциональной автономии – разрастание мер отчетности.
• Государство как противник сообщества высшего образования.
• Возможная международная аккредитация и аудит качества.
• Меняющаяся педагогика – растущее внедрение технологий.
• Сокращение государственных субсидий и, как следствие, рост платы за обучение, увеличение разнообразия источников финансирования, приватизация.
• Растущий частный сектор.
• Сложившееся научное сообщество.
• Глобальный перенос знаний и глобальные коммуникации.[4]
Простой и легкий рецепт культурной критики, нередко используемый колумнистами консервативных газет для приготовления своего еженедельного суфле, – придраться к современным процессам с точки зрения вчерашних стандартов. И именно в этом состоит риск для любого, кто пишет об университетах: принять качества из первого списка за мерило добродетели, которое ясно показывает, что все характеристики из второго списка являются прегрешениями. Но это не только указывало бы на довольно глупую форму консерватизма, обреченную на бессмысленность, но также и отвлекло бы от разнородности сравниваемых качеств. Например, трудно понять, как применение «технологии» в преподавании можно считать чем-то отличным от нейтрального внедрения изобретений, доступных обществу в целом: замена перьев шариковыми ручками, а письма от руки – машинописью может считаться утратой одного из важнейших принципов университета ничуть не больше, чем замена машинописи офисными программами (но это не означает, что новые возможности современных информационных технологий не накладывают свой отпечаток на поразительные изменения как в преподавании, так и в исследовательской работе). Точно так же можно было бы задаться вопросом и о том, действительно ли 50 лет назад наблюдалось лишь «зарождение активного научного сообщества», так что «сложившееся научное сообщество» – дело недавнего прошлого. Коммуникации, несомненно, ускорились, чему способствовало всемирное распространение английского языка, но эти изменения, хотя они вполне реальны, – всего лишь усиление той закономерности, которая действовала на протяжении гораздо более длительного периода времени и которую, конечно, нельзя представить как отступление от некоего более верного и чистого стандарта. Вопрос же о том, в качестве какого блага мыслится образование – общественного или частного, возможно, предполагает гораздо более общие убеждения относительно функционирования общества, а также, скорее всего, требует более прямого оценочного ответа.
Но ядром обоих списков является совокупность черт, которая явным образом указывает на изменение в масштабах референтных сообществ: национальное все больше заменяется международным. Один из очевидных аспектов этой перемены – возросшая мобильность студентов: какое-то время самыми желанными пунктами назначения были США и Британия, но в последние годы другие страны, в частности Сингапур и Австралия, стали функционировать в качестве крупных региональных рекрутеров. В конце 1990-х годов австралийским университетам было дано указание увеличить доходы, получаемые от платы за обучение иностранных студентов, и в итоге иностранцы составили более 25 % обучающихся в них студентов, но в последние годы даже эта величина была побита некоторыми университетами Британии, США и других стран, особенно на уровне аспирантуры (Лондонская школа экономики привлекала так много аспирантов из других стран, что к 2010 г. 60 % ее студенческого состава были иностранцами). Менее очевидны, по крайней мере англоязычным читателям, такие схемы, как «Болонские соглашения» в Европе, представлявшие собой попытку определить единообразный цикл начальных, магистерских и докторских степеней, который действовал бы в разных странах, ранее придерживавшихся достаточно различных классификаций и графиков обучения. Одно из оправданий этих схем заключается в упрощении перемещения из одной национальной системы в другую; в некоторых случаях с той же целью были навязаны семестровые «модули» как общая единица преподавания. Однако наиболее бросающимся в глаза и шокирующим признаком возросшего интереса к международным сравнениям является одержимость глобальными «рейтингами» университетов. Если позиции университета удовлетворительны, их с готовностью цитируют в рекламных и пропагандистских целях, но, по правде говоря, на практике они не имеют никакого смысла. Данные по многим предметам не могут быть получены в по-настоящему сравнимой форме, а применение опросов субъективных и необоснованных мнений, в частности «студенческой удовлетворенности», приносит мало информации, которая была бы одновременно надежной и полезной. Кроме того, в этих рейтингах (сегодня их несколько, но наибольшее внимание обычно привлекает «шанхайский глобальный рейтинг») непропорционально большой вес приписывается «большой науке», так что итоговое ранжирование говорит об уровне расходов на научно-исследовательские проекты в различных университетах, и эти показатели признаются в качестве ближайшего приближения, пригодного для решения более сложных проблем, связанных с определением того, действительно ли один университет в том или ином значимом смысле «лучше» какого-то другого.
Значение, придаваемое этим, по большому счету, пустым упражнениям, говорит о сочетании двух сил, которые имеют прямое отношение к обсуждению роли университетов. Первая заключается в примитивном предположении, будто университеты заняты непрерывной борьбой друг с другом, в которой видят некую международную конкуренцию, причем это представление является отражением более общих суждений о центральном значении экономической конкурентоспособности каждой конкретной страны. Сам язык выдает в этом случае своеобразный меркантилизм интеллекта, боязнь того, что запас национального богатства уменьшится, а не увеличится из-за успеха каких-то предприятий в других странах. Удивительно, как быстро и легко этот язык был усвоен за два-три последних десятилетия, хотя он вредит науке и академическим исследованиям, по своей природе обязательно требующим сотрудничества. Вторая сила – это растущее недоверие к разумной аргументации, которую сегодня часто считают либо завесой для частных интересов, либо формой элитистской надменности, а взамен ей прочат любой индикатор, который можно уверенно свести к числам. Последние наделены аурой точности и одновременно объективности, а потому, когда они соединяются с предпосылкой о конкуренции, могут породить не терпящий оговорок рейтинг. Сегодня ректоры следят за рейтингами так же нервно, как и футбольные менеджеры, а позиции, в них занимаемые, часто служат для оправдания того или иного изменения в стратегии.
Таким образом, обсуждение университетов, как и многих других предметов, оказалось отягощено «синдромом рейтингов». Предполагается, что все «топовые» университеты «играют» в одной и той же «лиге» – я специально поставил кавычки, чтобы привлечь внимание к ошибочности этих привычных метафор. Национальное самолюбие, всегда тщеславное и ветреное, все больше связывается с наличием университетов, которые могли бы выступить в роли достойных конкурентов для американских локомотивов образования. И опять же, результаты оцениваются в основном по исследованиям в биологии, физике и медицинских науках, причем результаты этих исследований, в свою очередь, в значительной степени определяются финансовыми инвестициями. Отдельный институт может быть хорошим университетом и играть в интеллектуальной жизни общества, его содержащего, важную роль, причем в совершенно разных смыслах и отношениях, но все это просто не принимается во внимание. В Британии обсуждение по большей части сводится к тому, могут ли Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж «конкурировать» с Гарвардом, Стэнфордом или Массачусетским технологическим институтом; в некоторых других странах все внимание приковано к необходимости вывести один или несколько университетов в первые «50» или «100» университетов мира. Вопрос о том, хорошо ли служит целям местного населения та же норвежская или швейцарская система высшего образования, просто не ставится (я выбрал эти примеры наугад, а не потому, что данные системы обладают какими-то особыми качествами), да и в любом случае нет возможности перевода ответа на подобные вопросы в псевдообъективность табличного формата. Транснациональный характер интеллектуального исследования сложился задолго до модных разговоров о «глобализации», и точно так же внутренне определяющее его сотрудничество опровергает сказку о международной «конкуренции». И «глобальный», и «мультиверситет» – это, в общем-то, термины, к которым нужно относиться с определенной осторожностью, если не сказать скепсисом (вероятно, эта рекомендация – излишня в случае последнего термина, тогда как в случае первого она, хоть и уместна, вряд ли возымеет действие).
Один из способов указать на важность недавних изменений – сказать, что жизнь в университете сегодня меньше отличается от жизни в других крупных организациях, чем когда-либо за долгую историю этих уникальных институтов. Традиционно, когда пытались выяснить, для чего же нужны университеты, обращались к великим культурным героям интеллектуальных исканий начиная с Платона и афинской Академии, а в XX в. прославляли нобелевских лауреатов и увенчанных лаврами исследователей, чьи достижения, как считалось, определялись их затворнической жизнью, огражденной от многих тягот этого мира. Однако отвлеченная, утонувшая в цифрах и помешавшаяся на аудите и грантах жизнь большинства современных факультетов так же далека от классических идеалов созерцательной жизни, как и от той формы существования, которая, как предполагалось до последнего времени, отражалась в метонимии «профессорской комнаты». Сегодня положение заслуженного академического сотрудника, особенно если он руководит кафедрой или исследовательским центром, во многих отношениях ближе к менеджеру среднего звена в коммерческой фирме, чем к положению независимого исследователя или преподавателя-фрилансера, а условия работы младшего или временного преподавателя в некоторых неблагополучных институтах могут в крайних случаях сближаться с условиями труда работников колл-центра. Любой анализ, родственный представленному в этой книге, должен признать эти изменившиеся обстоятельства и разобраться с ними, поскольку в противном случае он может оказаться бессмысленным, если не смехотворным. Но для решения такой задачи следует попытаться не просто повторить заклинания и лозунги, которые следуют канве этих обстоятельств. Цель данной книги в том, чтобы, сохраняя реализм и достаточную осведомленность о современном состоянии университетов, начать издалека, дабы возродить те способы понимания сущности и значения университетов, которые вот-вот выпадут из современного поля зрения.
4
Globalization’s Muse: Universities and Higher Education Systems in a Changing World / ed. by J. A. Douglass, C. J. King, I. Feller. Berkeley: Berkeley Public Policy Press, 2009. P. 5–7.