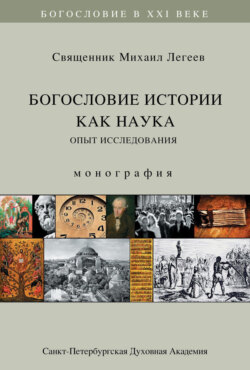Читать книгу Богословие истории как наука. Опыт исследования - Священник Михаил Легеев - Страница 17
Раздел I. Формирование богословия истории в церковной мысли: ключевые вехи
Глава 1. Историзм Библии как основание богословия истории
1.4. Традиции апостольского богословия истории и их преемство в Церкви
1.4.2. Соборное послание апостола Иакова
ОглавлениеЖизнь и история человека, согласно апостолу Иакову, представляет собой путь искушения, испытания (Иак. 1:3,12); этот путь определяется, прежде всего, внутренними процессами, происходящими в человеке. Если Бог неизменен (Иак. 1:17), то человеку оказывается потребна история для его исправления; она есть история его внутреннего испытания (Иак. 1:13) и восхождения к Богу. Этот путь представляет собой единый путь веры и дел (Иак. 2:14–26), достигающий в своей перспективе совершенства (Иак. 2:22). Мысль ап. Иакова антиномична: категоричное утверждение о том, что всякое внутреннее раздвоение (Иак. 3:9–10) должно быть преодолено в церковном члене (Иак. 3:11–18), противопоставлено реальности жизни – «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Так, духовное начало в человеке, выражающее себя в слове, подвержено раздвоению (Иак. 3:3–10). Эта антиномия «снимается» историей – историей человека в Церкви.
«Плод правды» сеется у тех, которые, одухотворяясь верою, деятельно «хранят мир» (Иак. 3:18). «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4), – такая ключевая мысль послания ап. Иакова будет наследована мужами апостольскими, богословие «двух путей» выразит её со всей остротою. Здесь у ап. Иакова мы видим дальнейшее развитие идеи поляризации истории, выраженную краткими словами Христа: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).
История в изображении ап. Иакова есть подвиг долготерпения (Иак. 5:7–8), подражание пути праведников Ветхого Завета (Иак. 5:10–11). Эта предельная синергийная устремлённость к Богу сообразуется с духовной мерою человека (Иак. 4:17) и, таким образом, представляет собой внутренний вектор его личной священной истории, а не наличное состояние его близости к Богу. Лишь внутренняя простота (Иак. 5:13) и радикальное, безоглядное устремление к Богу делает из человека подлинного христианина (Иак. 4:5–8); «христианство наполовину» оказывается невозможным. Огонь греховного «сокровища» человека будет поедать его в подобие жертвы греху в «последние дни» (Иак. 5:3). Такие люди убивают Христа, сами же убиваемы грехом (Иак. 5:1–6), – эти слова оказываются обращены к распявшим Христа, но также и ко всякому грешнику, особенно же к тем двоедушным (ср. Иак. 3:11; 4:8), которые будут исторгнуты из Церкви Христовой «в последние времена», как ныне исторгнут из «экклисии» отношений Бога и человека народ Израильский. Здесь ап. Иаков (как и везде в Новом Завете) намеренно не даёт различия между личной и всеобщей историей, показывая и подчёркивая их типологическое родство.
Но послание ап. Иакова всё же обращено к конкретному человеку (и тем не менее, даже личная священная история в нём имеет соборное, экклезиологическое измерение (Иак. 5:14–20)); это послание оказывается особенно близким к катехизической (прежде всего, обращённой на отдельного человека) традиции мужей апостольских, в нём мы находим корни и характер будущих восточных школ, обращённых в своих богословских акцентах к максимально конкретному пласту бытия, особенно к человеку, к личным усилиям человека в синергийном деле спасения.
И хотя священная история человека есть длящееся становление, путь ко Христу, однако она, в то же самое время, имеет и неизменную константу «стоящего у дверей» (Иак. 5:9). Так, сама история христианина – а следовательно, и христианства – несёт в себе, как зародыш будущей жизни, компонент вечности.