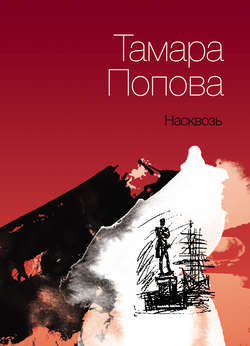Читать книгу Насквозь - Тамара Попова - Страница 2
I
Оглавление«Там ядовитая плесень на алтаре…»
Там ядовитая плесень на алтаре,
там паутиной затканы образа,
там ты торчишь, как пешка в чужой игре,
перед иконостасом (а кто там – за…).
Только подумаешь: «Черт меня побери!»
Вылезут мертвые руки и приберут…
Лучше не думай, а главное – не смотри.
Ты, брат, попал. Ты спалился, философ Брут.
Смрад запустенья, на стенах растут грибы,
ступишь неловко – хлюпанье, писк и хруст.
Это сильней, чем летающие гробы,
не сомневайся – храм не бывает пуст.
Ужин
Он глядел, словно гладил, а я визави
изучала с прищуром, как сноску петитом.
Он облизывал губы в невинной крови,
непрожаренный ростбиф жуя с аппетитом.
Я бежала на встречу, как зверь на ловца,
предвкушая охоту, почуяв добычу,
чтоб весь вечер глядеть на него, наглеца —
как он пакостно чавкает, шею набычив.
Кто-то скажет: «Постой, где сюжетная нить?
Что за дичь ты несешь? Кто охотник, кто жертва?»
Да, все так… Но прошу вас меня извинить —
это жизнь, а она не имеет сюжета,
растекаясь, как постмодернистский роман,
заплетаясь причудливо, словно мицелий…
фокус-покус оптический – полный обман,
и приклад на плече, и объект на прицеле.
«Если у вас есть тайна – надо ее хранить…»
«Если у вас есть тайна – надо ее хранить,
если же нет – стоит ее придумать.
Но ненадежно зарытое станет гнить
и отравлять эфир, или, как в пруду муть,
с темного дна всплывет в неурочный час,
или как орган вырезанный заноет…
Вот и выходит – если сокрыта часть,
значит, ущербно прочее-остальное.
Спрятанное – изъятое из бытия —
попросту кража… Но мне сие до лампады.
Сделаю, как решила!» – думала я
ночью на кладбище, с фонарем и лопатой.
Маленькой тайне в коробке из-под сапог
будет просторно, словно в гробу на вырост.
И никаких свидетелей. Только Бог
знает, что я натворила, но Он не выдаст.
«Мы созданы из вещества того же…»
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны.
В. Шекспир, «Буря»
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
А. Ахматова, «Есть в близости людей заветная черта…»
Мы созданы из вещества того же,
что наши сны, и сном окружены
всю жизнь, и жизнь сама на сон похожа.
Нам кажется, что мы защищены,
что в мире нет прочней материала,
что утром мы проснемся, как всегда.
Закутаемся на ночь в одеяло
и вроде ничего… Не страшно, да…
Так спи спокойно, незабвенный друг,
в роскошном люксе, в дворницкой каморке —
спи, но memento mori – можно вдруг
зажмуриться и очутиться в морге.
Вот место, где не ночевал Творец!
Нет, правит бал не адский сатана там —
Сатурна Сектора суровый жрец
с ножом в руке – патологоанатом
пришел и хладнокровно обнажил
кишок замысловатые извивы,
волокна мышц и разветвленья жил.
А нам казалось, мы неуязвимы…
Он это заблужденье опроверг,
чудесный храм, великий дар господень
безжалостно вскрывая, как конверт,
который больше ни на что не годен.
И наклоняясь к мертвому письму,
строку он произносит за строкою.
Ну что ж, теперь он понял, почему
не бьется сердце под его рукою.
«Что делать? Майский вечер тих и светел…»
А кто гулял-погуливал в лесах моей души?
Нора Яворская
Что делать? Майский вечер тих и светел,
вот-вот завьет руладу соловей,
но лес моей души терзает ветер,
срывая листья мертвые с ветвей.
Кто виноват? Сама я, чадо мая,
сметаю чувств сухие лепестки.
Мне не хватает чуткого вниманья,
прикосновенья дружеской руки.
Настойчивый приятель ищет встречи.
В отчаянье все средства хороши —
а вдруг в ответ ручью учтивой речи
взыграет ключ в лесу моей души?
И вот уже лежит его рука
поверх моей, и чувства с поводка
сорвутся скоро, как собачья свора,
но обостренный слух уловит фальшь,
едва начнет давить словесный фарш
тугая мясорубка разговора.
Одноклассники
Ну вас, други, в канаву, поросшую сорной травой
сонной памяти детства… Соратники, спите спокойно.
Вы мне больше не снитесь, и ладно. С больной головой
мне давно не до дум, а былое тем паче – на кой мне?
Будьте вы трижды счастливы, ныне и присно, пока
терпит почва, пока на бескрайних небесных экранах
можно видеть, как прямо в эфире бредут облака,
из пушистых ягнят превращаясь в овец и баранов.
«Если в бокале твоем вина…»
Если в бокале твоем вина
только на полглотка,
цель, что, казалось, едва видна,
стала совсем близка,
если с утра встаешь, как на бой,
куришь назло врагу,
он же куражится над тобой,
сплевывая лузгу
планов потешных, пустых надежд —
Значит, все было зря?
Так и замрешь, не смыкая вежд,
выспренно говоря.
Время – бесшумный полет совы,
век – неприметный миг.
Не потревожив ночной травы,
мышкой-полевкой – шмыг.
Изредка даже последний лох,
как ни смурна нужда,
думает:
– Мир не так уж и плох.
Плох, но не так уж… Да —
главное, вся эта суета —
на острие пера.
Наискосок начерти: «Пора»,
И – поворот винта!
«Оттого что нельзя о любви говорить в суете…»
Оттого что нельзя о любви говорить в суете,
я годами молчала. Слова мои падают тяжко.
В небо пальцем попасть, если время и место не те —
продырявить эфир и остаться с кровавой культяшкой.
Оттого что нельзя в суете говорить о любви,
сочиняю пейзаж, где скупы и суровы красоты,
и, целуя в потемках поблекшие губы твои,
до утра запечатаю их, словно хрупкие соты.
Надежда
Как сухую траву, огонь пожирает тело.
Лишь надежда жива, она же умрет последней.
Падает в грязь ничком, зажимая руками рану,
корчится в муках, за ней тянется красный полоз —
кровь, покидая тело, уходит в землю.
Плоть оплывает свечой, обнажая остов.
Травы, пронзая пустоты, тянутся к небу.
Это твой цвет, надежда, твой рай зеленый.
«Расстреляешь обойму – и станет светло и легко!..»
Расстреляешь обойму – и станет светло и легко!
Ничего, что дрожал с бодуна и попал в молоко.
Расстреляешь обойму – и сразу светло и легко.
Снова можно свободно дышать и гулять не спеша.
Жизнь свежа и нежна, как ромашка в стволе «калаша».
Можно ровно дышать и по парку бродить не спеша…
Можно снова с печальной улыбкой глядеть на людей,
и не важно, что ты прирожденный не-до-любодей.
Можно с мудрой и доброй улыбкой смотреть на людей…
А всего-то: бэнг-бэнг – и врагам окаянным назло
увеличишь собой миротворцев блаженных число.
Расстреляешь обойму, и станет легко и светло.
N. N.
Суровый ментор, незваный лидер,
со школьной парты заклятый друг…
Пока он ног о тебя не вытер,
не привыкай кормить его с рук.
Ему сопутствуют визг и скрежет —
не жми, кондуктор, на тормоза…
он, как свинью, правду-матку режет,
а правда колет ему глаза.
Враги, как мухи, кругом роятся,
кишат, как черви, куда ни глянь,
и кто-то держит его за яйца,
сжимая нежно стальную длань.
Я с ним и в поле одном не сяду,
а он звонит и зовет на чай.
Ну что сказать ему?
– Выпей яду!
Приду на похороны. Прощай.
* * *
«Ненависть разгорается жарче пламени…»
Ненависть разгорается жарче пламени.
Сердце упрямо выстукивает «люблю»
и отправляет шифрованное послание,
по кровотоку стремящееся к нулю,
в ушко иглы, куда и верблюд протиснется,
а мне не втащить свой невесомый крест.
И поделом – нечего было противиться
заповеди, торчащей, как Эверест.
Ненависть к ближнему – это любовь навыворот,
общей картины пульсирующий мазок;
взять бы себя саму и публично выпороть,
плача и умоляя:
– Еще разок!
«Такой закат, что хоть ори: „Горим!“…»
Такой закат, что хоть ори: «Горим!»
Невольно мы свернули на дорогу,
ведущую не к дому и не в Рим,
а на пожар, пылающий без проку.
Обыденность – гори она огнем!
Мой выход от заката до рассвета.
Пожар, пожар! И я сгораю в нем,
не замечая ледяного ветра.
И мячики кровавые в глазах…
А спутник мой, в карманах руки грея,
советует спустить на тормозах
восторг и возвращаться поскорее.