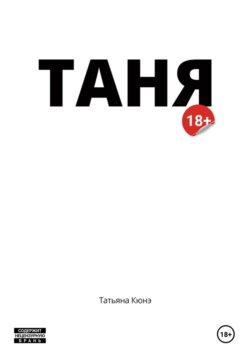Читать книгу Таня - Татьяна Кюне - Страница 2
Бабшура
ОглавлениеАлександра Гавриловна была моей бабушкой по материнской линии, и все звали её по-деревенски, Бабшурой, хотя мне всегда нравилось имя Александра, без всяких вот этих Шур и Шурочек.
Родилась она в далёком 1906 году в Рязанской губернии в семье зажиточных крестьян, которых потом тотально раскулачивали и пускали по миру. Если в семье была скотина, тёплый рубленый дом и сундук с фуфайками на «рыбьем меху», то всё: ты кулак и жизнь твоя больше не будет лёгкой.
Выдали Бабшуру замуж рано, не по «любо́ви», а из «расчёту»: добро к добру. Деда Григория, её мужа, я не знала, его убили в Великую Отечественную Войну где-то под Курской дугой, и Бабшура до конца своих дней хранила в допотопной шкатулке старый, потрёпанный временем треугольник последнего его письма, маленькую фотографию, где тот был похож на узника Освенцима, и документ, в котором говорилось, что рядовой солдат Мелешин Григорий пропал без вести. Народилось у них четыре дочери, что по тем временам было далеко не пределом. Самую младшую, Маню, во время войны Бабшура случайно обварила кипятком из громадного котла, и девочка умерла. Средней дочерью была Катюня, моя мать.
Бабшура была очень набожной, как сейчас говорят, воцерковлённой. Она почти каждый день ходила в церковь, читала молитвы и Библию, заботливо обёрнутую в бумагу. Домашний иконостас в углу комнаты она никому не доверяла и всегда сама за ним ухаживала: меняла кружевные салфетки, протирала пыль, убирала огарки свечей. Лампада горела у нас практически круглосуточно, и необычный запах ладана я помню с детства. А ещё Бабшура имела коричневого цвета матерчатый поясок с молитвой «Отче наш», на котором буквы были написаны бронзовой краской. Она его обматывала вокруг живота и без него на улицу вообще не выходила, мало ли… Пояс хранил Бабшуру от сглаза, порчи и прочих катаклизмов. Однажды её сбила легковая машина на пешеходном переходе, но всё обошлось парой синяков и шишек. «Это меня Николай Чудотворец спас, Танька, и пояс на животе, знай!» – говорила она мне со слезами на глазах и молилась ещё пуще прежнего.
Жизнь у Бабшуры была тяжёлая, как и у большинства деревенских, приехавших после войны «по лимиту» в столицу на заработки. Люди ещё жили в «землянках», работали на тяжёлых работах и мечтали о светлом будущем – не для себя, так хотя бы для детей или внуков. Элементарной грамоте Бабшура была обучена каким-то пьющим деревенским дьяконом. Он научил её только читать по слогам и ставить крестик вместо подписи, а позднее крестик уже трансформировался в корявую подпись.
Я родилась, когда Бабшуре было уже до хера лет, но она ещё работала в какой-то жуткой кочегарке на Заводе имени Лихачёва, носила грязно-засаленный передник непонятного цвета, забирала волосы под косынку на манер знатных советских ткачих и натягивала неизменные чёрного цвета калоши на шерстяные носки. Вот в ту кочегарку она меня однажды и повела: завод-гигант, кормилец тысяч семей, для Бабшуры был важнее Кремля, и его обязательно надо было увидеть. Сама площадь завода: грязные заводские закоулки с вечно не просыхающими лужами, какие-то бесконечные цеха, дымящие трубы и узкая страшная металлическая лестница в её кочегарку – произвела на мою детскую психику неизгладимое впечатление. Я как-то моментально для себя решила, что работать там я бы не хотела, и даже её резонное замечание, что работникам завода дают «квартеры», меня не вдохновило. А ведь именно Бабшуре в конечном итоге повезло: за её многолетние мытарства на ЗИЛовской кочегарке и дали сначала комнату в коммуналке, а потом и отдельную, со всеми удобствами и громадной кухней, двушку в новостройке на юго-востоке Москвы, где в начале восьмидесятых годов ещё можно было увидеть пасущихся коров и поля, засаженные капустой.
Если бы не Бабшура, не видать бы мне ни фигурного катания, ни «пианины». Именно она впервые отвела меня в четыре года на каток, залитый в хоккейной коробке на территории стадиона АЗЛК «Москвич».
Бабшуру на катке все звали Тренершей, потому что она стояла за бортиком и громко раздавала юным фигуристам советы: едь быстрее, руку вытяни, подсекай правой, теперь «аксуль», фонарики позабористей! Где она всего этого набралась, никто не знал, но все очень старались и уважали её за громкий голос и тренерский талант.
В общем, я была в полном Бабшурином распоряжении, пока мать пропадала до вечера на работе. Бабушки советских времён виделись мне героинями, и без них работающим родителям, мечтающим пристроить своих отпрысков в популярные тогда секции, было никуда. Да, были детские сады, ясли, продлёнки, но бабушки были намного круче! Самые вкусные и пышные пироги на дрожжевом тесте были у Бабшуры. По воскресеньям ритуалить на тему сдобной выпечки она подрывалась аж в пять утра. Пока опару приготовит, пока тесто подойдёт, пока начинку заготовит, пока три противня разных кренделей налепит, густо намазав всё это богатство яичным желтком, пока подрумянятся в духовке… глядишь, и обедать уже пора! Все ингредиенты Бабшура клала «на глазок», без всяких там весов, замеров и прочих кухонных прибамбасов. Запах стоял на весь подъезд, и воскресенья я считала праздничными днями. Пироги щедро раздавались соседям, а оставшиеся аккуратно заворачивались в целлофановый пакет и прибирались «ушкапчик», чтобы не зачерствели. Иногда Бабшура разрешала мне оторвать от готового сырого теста кусочек как лакомство, но кто-то мне однажды сказал, что от этого бывают глисты, и от страха развести в своём животе червей канючить у неё тесто я больше не рисковала.
Традиционно на 9 мая Бабшура с мамой ездили к Вечному Огню на Красной Площади и возлагали две красные гвоздички, потому что дед Григорий пропал в войну без вести и своей могилы у него не было. В этот день обязательно у нас дома накрывался стол, варился накануне холодец, картошка в мундире, доставались соленья. Бабшура ставила на стол гранёный стакан, наполовину заполненный водкой, и накрывала его сверху кусочком чёрного хлеба, зажигала новую церковную свечку и молилась об убиенных защитниках. Из окон домов гремела военного времени музыка, народ заливался алкоголем и гудел до самого утра. Телевизора Бабшура боялась, считая его дьявольским отродьем, и напрочь отказывалась смотреть даже Парад Победы. Вообще она благосклонно относилась только к советским пионерам, а вот комсомольцы и, не дай божечки, партийцы вызывали у неё неприятие, как телевизор. Церковь же была тогда намертво отделена от государства, и этот пережиток общества искореняли на каждом шагу. Пионеры в Бабшурином представлении ещё были маленькими и голову им засрать антирелигиозным мракобесием было трудно, поэтому она водила меня на воскресные церковные службы почти до девяти лет, пока мне нравилось разглядывать всё то золотое убранство, есть хлебные просвирки и прикладываться к серебряной ложечке с кагором, разбавленным водой, из рук странно одетого – как царь – дядечки с длинной бородой. Помню, что я перестала испытывать к нему благоговение, когда под его рясой увидела современные чёрные ботинки из обувного магазина. Магия очарования тут же испарилась, и больше с бабушкой в церковь я не ходила. А уж когда она вытворила один позорный фортель в отношении моего комсомольского будущего, тема религии для меня вообще стала табу.
Наступило время принятия меня в Ленинский Комсомол. Это случилось в новой школе, куда я перешла в пятый класс. Мои одноклассники уже знали друг друга, ибо целыми группами переходили из старой школы в новую, а я переехала из другого района и очень волновалась. Новый класс, новые друзья, новые враги. Надо было завоёвывать своё место под солнцем, чтобы не стать белой вороной. Я вообще тяготела в те времена к коллективизму и старалась принимать участие во всех школьных безобразиях, особенно если они происходили вне стен учебного заведения.
Готовились мы к поступлению в Комсомол следующим образом: надо было получить большинство голосов «за» на классном собрании, выучить Устав, прочитать какие-то книги типа «Как закалялась сталь» и, наконец, припереться всем табуном в районную комсомольскую организацию, чтобы ответить на вопросы по теме очередного съезда, почему ты хочешь стать комсомольцем и вытерпеть прочую тягомотину под торжественную идейную музычку. Потом при всём честном народе тебе вручали комсомольский значок, билет в виде красной кургузой корочки-книжки, и ты торжественно обязался платить взносы по 2 копейки в ежемесячную комсомольскую кассу. Естественно, это предстоящее событие было озвучено и Бабшуре, которая, как вы помните, комсомол не одобряла. Накануне великого мероприятия я сидела на уроке химии, «мяла цыцки» и почти засыпала под шуршащий скрежет учительского мелка на доске, как вдруг открылась дверь и на пороге появилась моя Бабшура с иконой Николая Чудотворца в руках. Лекция об антихристе и том, что мы все сгорим в аду, если Таньку, меня то есть, отдадут в этот грёбаный Комсомол, произвела фурор. Сегодня бы это назвали модным словом «перформанс», а тогда это была бомба, разорвавшаяся у всех на глазах. Химичка сначала даже не поняла, что это за цирк с конями: ну, может, бабка не в то здание забрела или приходом ошиблась, но Бабшура начала тыкать в мою сторону пальцем, и все поняли, что это чудо явилось по мою душу. В тот момент я её возненавидела люто и готова была прибить, потому что такого позора даже дедушка Ленин на том свете, наверное, не огребал. Стыдобища и желание провалиться в преисподнюю захватили всё моё существо. За секунды в голове нарисовались самые страшные моменты моего будущего исключения из школы и последующего сжигания на пионерском костре. Что-то объяснять Бабшуре было бесполезной тратой времени, и меня попросили выйти из класса и увести странную родственницу за пределы школьного двора. Дома я орала такой дурниной про свою загубленную репутацию «правильной девочки», что у Бабшуры подскочило давление и ей пришлось вызывать скорую помощь, а меня отпаивать валерьянкой. На следующий день нас, всех одобренных, приняли в Комсомол, а с Бабшурой я неделю не разговаривала.
В этом же 1982 году её хватил инсульт, и в декабре она тихо умерла во сне. Так я в первый раз поняла, что такое смерть. Мать занавесила зеркало чёрной тканью, началась похоронная суета, и меня отправили ночевать к школьной подружке, чтобы я не пугалась, не рыдала и не мешалась никому под ногами. Целых три дня забальзамированная Бабшура лежала дома в гробу, поставленном на табуретки в нашей с ней комнате. В скрещённых на груди руках горела маленькая церковная свеча, а все иконки и поясок с молитвой были положены моей матерью в изголовье гроба, чтобы и на том свете они её оберегали. Хоронили Бабшуру на Рогожском кладбище. Земля была мёрзлой, кладбищенские мужики в ватниках и шапках-ушанках ковырялись долго, лениво орудуя на морозе металлическими палками и лопатами. Родственники стояли замёрзшей кучкой, прижимаясь друг к другу и пряча скорбные лица от ледяного ветра в поднятые воротники, а я, не стесняясь своего горя и жалости к Бабшуре, тихо плакала, понимая, что мы остались с матерью вдвоём и что жизнь моя тоже изменится и прежней уже никогда не будет.