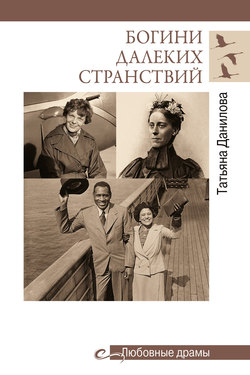Читать книгу Богини далеких странствий - Татьяна Николаевна Данилова - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Екатерина Невельская. В Амурской экспедиции, с Амуром в сердце
Отважный капитан
ОглавлениеГеннадий Иванович Невельской был старше своей избранницы на 18 лет. Он родился в 1813 году в Костромской губернии в имении Дракино. Хотя по документам значилось, что он на год моложе, однако это вовсе не значит, будто он пытался скрывать свой истинный возраст. Просто при поступлении в 1829 году в Морской корпус Невельской опоздал с подачей заявления, и пришлось внести коррективы в свидетельство о рождении.
Невельские – старинный дворянский род, обосновавшийся на костромской земле в XVI веке при царе Иване Грозном. В роду Невельских существовала легенда, что кому-то из предков удалось спасти жизнь царю Алексею Михайловичу. Так вот, пустошь Дракино и была подарена царем основателю той ветви Невельских, к которой принадлежал и Геннадий Иванович. При Петре I служил на флоте боцманом Григорий Дмитриевич Невельской – он стал основателем флотской династии, – так что о том, чтобы избрать какую-то другую профессию, кроме морской, для Геннадия Ивановича не могло быть и речи. Подобно большинству дворянских недорослей своего века, он получил домашнее образование, но рассказы и книжки по морской истории и морской тематике, о морской службе вообще, надо думать, преобладали. Еще совсем недавно было совершено первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. Когда сведения об этом доползли до Костромы, то, наверное, родной дядя Петр Алексеевич вспомнил, что учился в Морском корпусе вместе с братом кругосветного мореплавателя Ананием Лисянским.
В 1823 году по стране прокатилась эпидемия оспы, не обошла она стороной и семью Невельских: в том году умерла его сестренка Елизавета, переболел ею и Геннадий.
Мать Геннадия Невельского Феодосью Тимофеевну изображают злой Салтычихой, и это не лишено оснований. Получила огласку история с крепостной девушкой Анной Никитиной, которая утопилась, доведенная до самоубийства злой помещицей. Дело о самоубийстве замять не удалось, и даже в такой страшный век ему был дан надлежащий ход. В архиве Костромской области до пожара 1982 года сохранялось дело «Об убийстве девки Анны Никитиной» и «Дело по предписанию господина губернатора о жестоком обращении помещицы Невельской со своими людьми». За это последнюю арестовали и начали против нее следствие. Кончилось дело тем, что ее дочь, сестра Геннадия Ивановича, взяла мать на поруки и увезла на постоянное место жительства в Кинешму. Со временем туда переместилось все гнездо Невельских, но это было уже потом, когда Геннадий упорхнул из родимого дома. Матушкина жестокость по отношению к крестьянам вряд ли его как-то могла возмущать в детские годы. Скорее всего, его попросту все это не касалось – такие были времена, увы… тогда это, возможно, могло восприниматься как само собой разумеющееся. Итак, Невельской рос в семье, насквозь пронизанной морскими традициями, в которой служение Отечеству связывалось чаще всего с флотом, поэтому, получив блестящее по тому времени образование, Геннадий Иванович стал близок к царской семье, к высшему петербургскому обществу. Более того, он вошел в число немногих передовых и гуманных офицеров, которые не допускали издевательств над матросами, вчерашними крепостными.
Следует отметить, что в Петербурге, поступив в Морской корпус в 1829 году, Невельской сразу оказался в среде интеллектуалов и патриотов. Так, директором корпуса в те годы был вице-адмирал И.Ф. Крузенштерн – тот самый, который совершил первое русское кругосветное плавание. А вместе с Невельским учились Павел Кузнецов – будущий автор учебника по гидрографии, Николай Краббе – будущий военно-морской министр, Алексей Бутаков – будущий исследователь Каспийского и Аральского морей, Павел Казакевич – впоследствии выдающийся деятель гидрографии. В другой роте состояли Петр Казакевич – будущий сподвижник Невельского по плаванию на «Байкале» и государственный деятель на Дальнем Востоке в 1850–1860-х годах Степан Лесовский – будущий военно-морской министр.
Гардемаринская практика в навигацию 1831 года проходила на Балтийском флоте. Невельской попал на корабль «Великий князь Михаил». Уже в эти годы юноша стал целенаправленно и углубленно интересоваться Амуром, Сахалином и вообще Дальним Востоком, а интерес его «подогревал» и сам Крузенштерн. Из его слов выходило, что амурская и сахалинская проблемы не были решены до конца. Тогда на всех картах мира Сахалин изображался полуостровом, несмотря на то что на старинных чертежах, картах русских мореходов и землепроходцев он был обозначен как раз островом. Амур тоже выглядел рекой, не имевшей выхода к океану. В 1836 году мичман Невельской успешно сдал экзамены за курс офицерского класса, ему присвоили чин лейтенанта и назначили на корабль «Беллона». В том же году его взволновало одно любопытное сообщение: якобы японцы Могами Токунай и Мамия Риндзоо проплыли на лодке там, где был обозначен перешеек между Сахалином и материком. Более того, Риндзоо вроде бы удалось еще и пробраться с юга в лиман Амура и дойти даже до его устья. Это еще больше подлило масла в огонь, полыхавший в душе молодого офицера, – в общем, он заболел дальневосточной проблемой. Но служба есть служба, и пришлось ему оказаться вместо Сахалина в Лондоне, а оттуда без остановок через Бискайский залив идти до Гибралтара и далее, вперед по Средиземному морю… Впервые Невельской вступил на землю африканских, итальянских, греческих, французских портов: Палермо, Сиракуз, Мальты, Мессины, Ливорно, Специи, Бахии, Неаполя, Тулона, Алжира. Затем был Копенгаген, поездки в Гаагу, Веймар и Берлин.
В общем, с карьерой военного моряка все было в порядке: вскоре ему присвоили чин капитан-лейтенанта и наградили в размере полугодового жалованья. Служба шла хорошо и обещала другие отличия. В тридцать три года – капитан-лейтенант и кавалер двух орденов! И это в мирное время. Отныне он имел полное право претендовать на командирскую должность. Ему дают ответственные поручения. К примеру, он командируется на Черное море – в Севастополь и Николаев – осмотреть условия стоянки кораблей в портах, оценить оборудование ремонтных мастерских и составить об увиденном обстоятельный доклад. Невельской справился с этой работой успешно, но возвращение домой омрачила страшная для Невельского новость: в его отсутствие 12 августа 1846 года скончался И.Ф. Крузенштерн, который так много значил в его жизни. Мысленно он уже дал клятву – завершить на Амуре и на Сахалине то, что не успел сделать Иван Федорович, его духовный наставник.
На первом годичном собрании Русского географического общества, состоявшемся в том же 1846 году, идеи Невельского получили поддержку Федора Петровича Литке – руководителя и основателя общества. Началась подготовка экспедиции на Дальний Восток. Она должна была состоять из двух отрядов – морского и речного. Речному под командованием А.П. Баласогло было поручено спуститься по Амуру до лимана. Во время плавания ему надлежало описать реку на всем ее протяжении и наладить добрососедские отношения с местными жителями, а уже в самом лимане соединиться с морским отрядом под командованием Невельского. Морскому отряду предстояло описать Сахалин и, самое главное, окончательно выяснить возможность входа в Амур со стороны моря. Иными словами, разобраться, является ли Сахалин островом, или же все-таки он полуостров. Надо сказать, что Невельскому как умному и успешному офицеру прочили придворную карьеру и готовили в командование одним из лучших фрегатов того времени – «Палладой». Однако это не входило в планы самого Геннадия Ивановича – он мечтал о другом и сумел добиться своего.
Фрегат «Паллада». Художник А.П. Боголюбов
Так, 21 августа 1848 года транспорт «Байкал» под военным флагом и под командованием капитан-лейтенанта Геннадия Ивановича Невельского ушел в плавание из Кронштадта. Он направлялся в сторону Камчатки, планируя пройти вокруг мыса Горн, то есть через Атлантический в Тихий океан.
Результатом экспедиции 1848–1849 годов стало подтверждение гипотезы, что Сахалин все-таки остров, и основание на берегу Охотского моря, в заливе Счастья (это название дал ему Невельской) русского поселения, из которого теперь можно было вести торговлю с местными жителями и развернуть дальнейшие исследования Приамурья.
«Во имя угодника этого дня и в память Великого Петра, – писал Невельской, – я назвал его Петровское!» А кроме того, он основал на амурском мысе Куегда первый в Приамурье русский военный пост, названный Николаевским, потом он стал называться Николаевском-на-Амуре. Однако где-то Невельской допустил оплошность, если в 1849 году был произведен в капитаны 2-го ранга, но без пенсии. Обычно за совершение кругосветного или полукругосветного путешествия офицеры награждались орденами, получали следующие чины, а также могли рассчитывать на пожизненную пенсию. Невельскому не простили даже намека на непослушание: формально он не имел права идти в лиман Амура, не получив именного, личного царского повеления. А он пошел. И поплатился за это очередным орденом и пенсией. Правда, вскоре ему дали капитана 1-го ранга и назначили на должность офицера по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Существенным штрихом к биографии Невельского может служить и тот факт, что во время его службы с великим князем Константином на Балтике Геннадий Иванович при каких-то сложных обстоятельствах спас ему жизнь. Последующие годы подтвердили это: Константин до последних лет жизни Невельского находился с ним в личной переписке. А когда член царской семьи, руководитель Российского военно-морского флота состоит в дружеских отношениях с офицером и даже, как утверждали современники, «очень его любит», перед такими достоинствами меркнут многие недостатки.
Вот таким человеком был Геннадий Иванович Невельской, когда он прибыл в Иркутск: всем хорош, одна беда – неказист.