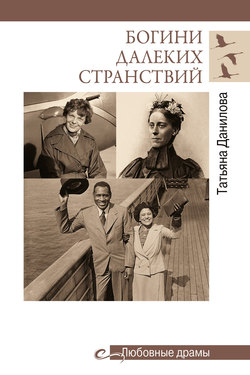Читать книгу Богини далеких странствий - Татьяна Николаевна Данилова - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Екатерина Невельская. В Амурской экспедиции, с Амуром в сердце
«Амазонка» в пути
ОглавлениеНо вот позади осталась иркутская застава, а впереди была дорога на Качугу. Последние объятия и поцелуи родных, друзей, и молодые остаются в обществе служанки Авдотьи и вестового, постоянно сопровождавшего Невельского во всех его разъездах. Сначала они ехали в экипаже вдоль Лены по берегу, любуясь красотами сибирской реки, проигнорировав на какое-то время благоустроенную лодку. Молоденькая путешественница была счастлива – она впервые оказалась наедине с божественными красотами природы.
Путешествие по Лене продолжалось две недели. «Это правда, что Лена прекрасна, – писала Катя родным. – Окружающая нас природа дика и в то же время величественна. Я думаю, что в ее оригинальности и заключается ее прелесть. Везде высокие горы, покрытые лесом, крутые обрывы. От времени до времени мы проходим мимо прелестных островов; это настоящие рощицы посреди реки. Впрочем, все вместе имеет грустный и мрачный вид, но всегда величественный и красивый».
Надо признать, что Невельской сделал все возможное, чтобы это путешествие не показалось Кате утомительным. Вскоре плавание по величавой Лене завершилось любованием изумительными творениями природы – Ленскими столбами, да и настроение юной путешественницы заметно поднялось. «Я теперь не такая печальная, – сообщает она в письме от 28 мая 1851 года, – и моя веселость напоминает времена Иркутска… Ваша Катя очень счастлива, она более и более привязывается к благородному другу, который ее выбрал между всеми. Я вам клянусь, что опасности столь необыкновенного путешествия меня пугают теперь меньше, чем когда-либо. Если я еще очень страдаю от нашей разлуки, то мой муж всегда найдет средство меня развлечь и успокоить. Он так нежно заботится обо мне, имеет такую глубокую привязанность ко мне, он такой благородный, безукоризненный герой. Ему всегда удается возвратить покой моей душе и мыслям, и я делаюсь опять весела и резва, забавляя и заставляя хохотать степенного генерала Невельского, благодаря сотням тысяч шалостей, которые приходят мне в голову. На коленях благодарю я Господа, что он мне послал в покровители этого чудного человека, любовь которого – моя гордость и будет для меня сильной опорой в испытаниях, которые меня, может быть, ожидают впереди…»
Они прибыли в Якутск, где предстояло хорошенько отдохнуть перед более трудной дорогой в Охотск и Аян. По городу тут же пронесся слух, что губернатором создаваемой Якутской области прочат Невельского. Естественно, это объясняло повышенное внимание к супруге будущего губернатора. Последовали званые обеды, где Катя старалась примерить на себя облик серьезной дамы.
Путешествие из Якутска в Охотск началось ранним утром 2 июня 1851 года. Караван из пятидесяти лошадей, навьюченных багажом и разными грузами. Конвой казаков, двое из которых понимали местные языки. Но как ни старался Невельской – он даже спал по нескольку часов в сутки, – все предусмотреть не мог, и вскоре выпускница Смольного смогла «насладиться всей прелестью» пути. Она признавалась родным: «Вы знаете, что я готова была встретить всякие препятствия и неудобства, но действительность превзошла все, что могло нарисовать мне мое воображение. Никогда не могла я себе представить, что такие дороги существуют на свете. То приходилось вязнуть в болотах, то с величайшим трудом пробираться по непроходимым лесным дебрям, то, наконец, переправляться вплавь через быстрые реки… Ах, что мы вытерпели! Несмотря на все усилия над собою, бывают минуты, когда я ослабеваю и теряю всякое мужество…»
Вскоре она начала испытывать странное недомогание – Катя была беременна. И дорога стала для нее настоящей пыткой. В Охотске у Невельской произошли преждевременные роды. «О как я рыдала, как я проклинала эту ужасную дорогу, которой опасности, ужасы и страшное утомление лишили меня самой сладкой надежды», – делилась она своим горем с родными.
Непредвиденные роды нанесли тяжелый удар по ее здоровью. Невельской твердо решил, что ни в какое Петровское он жену не возьмет, а отправит ее, после того как она немного подлечится, обратно в Иркутск. Он-то решил, но когда Катя подняла на него свои огромные глаза и слабым голоском промолвила: «Нет!» – он понял, что его решение ничего не значит.
И вот в конце июля маленькая эскадра из двух судов – «Шелихов» и «Байкал» – вышла из Охотского порта Аяна, держа курс севернее Шантарских островов, на Сахалинский залив. Там были и семьи мастеровых, решивших переселиться в этот неизвестный край. Невельской поощрял такое переселение, но в то же время оно не могло его не волновать, о чем опять же свидетельствуют письма Екатерины: «Он весь поглощен тою мыслию, чтобы ничего не опустить такого, что послужило бы на пользу будущей колонии и ее благосостоянию, сохранило бы здоровье всех тех, кого он увозит с собою к неведомым еще местам у устья реки Амур».
Основной состав Амурской экспедиции и большая часть грузов оказались на барке «Шелихов». С непривычки, как и большинство переселенцев, оказавшихся впервые на нетвердой «почве под ногами», супруга капитана 1-го ранга мучилась от последствий качки, а когда наконец-таки ее организм адаптировался к новым реалиям, пришла неожиданная беда: в тумане «Байкал» сел на мель, а «Шелихов» начал тонуть. У шхуны в районе форштевня оторвались две доски наружной обшивки, и вода стала заполнять жилые помещения. Это случилось совсем недалеко от залива Счастья.
Когда Екатерина Ивановна узнала о смертельной опасности, у нее хватило силы воли не поддаваться панике, а спокойно одеться потеплее, собрать все необходимое и ценное в узелок и спокойно ждать на складном стульчике дальнейших приказаний. Вскоре муж сообщил, что «Шелихов» вышел на мелководье, смертельная опасность миновала, но положение все же остается серьезным. Он разрешил ей подняться наверх.
«Я вышла из каюты, куда вода уже начала проникать. На палубе матросы равняли бочонки пороха, вытащенные из трюма, и работали, чтобы спасти груз и багаж. Офицеры, казаки, даже молодые женщины в слезах, из которых некоторые держали в своих руках младенцев, изо всех сил качали воду. Вода доходила да наших пяток. Дети и старухи, неспособные к работе, бегали, кидались то в одну, то в другую сторону, толкались, кричали, рыдали, ища убежища против воды, которая все подымалась. Ах! Ужасная картина!.. Я ходила от одной группы к другой, утешая их и объясняя, что опасность миновала, что все будут спасены, умоляя их оставаться спокойными и не волноваться за тех, которые работали для них. Увы! Это был напрасный труд! Они меня не слушали», – писала она потом в письме. Но кто в такой суматохе мог послушать молоденькую жену начальника, всем хотелось поскорее спастись – перед угрозой гибели все равны. Когда же спасательные шлюпки были спущены на воду и ей первой предложено покинуть борт тонущего судна, она твердо ответила: «Мой муж говорил мне, что при подобном несчастии командир и офицеры съезжают последними; я съеду с корабля тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на нем, прошу вас заботиться о них». Поведение Екатерины Ивановны в роковую минуту произвело сильное впечатление на окружающих. Авторитет молодой супруги Невельского сразу возрос.
На «Байкале», куда перевозили всех, было суматошно: продолжалась доставка вещей, важных грузов, пороха… Только к вечеру следующего дня, когда начался прилив и корпус «Байкала» стал содрогаться от каждой новой волны, – «каждый толчок выбрасывал меня с койки полумертвой от ужаса», как признавалась потом родным эта юная храбрая трусиха, – судно благополучно снялось с мели без видимых повреждений и взяло курс в сторону залива Счастья. Катя с горькими слезами бросала последний взгляд в сторону «Шелихова», который тонул, погружаясь все больше и больше, одновременно разваливаясь на части. А вокруг плавала ее мебель – украшение будущего семейного гнездышка, в том числе разбитое фортепьяно розового дерева – подарок великого князя Константина. Слава богу, что уцелел «Байкал» – любимое детище Невельского.