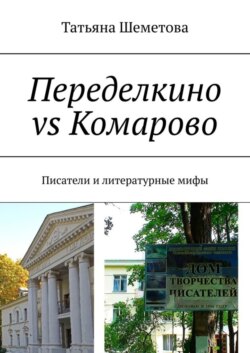Читать книгу Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы - Татьяна Шеметова - Страница 17
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДЕЛКИНО
3. Миф о Пастернаке в лирике Ахмадулиной
Выбор между Пушкиным и Пастернаком
ОглавлениеИзвестно, что в 1959 году Белла Ахмадулина была исключена из Литературного института за отказ участвовать в травле Пастернака, а в 1962 году написала стихотворение «Памяти Бориса Пастернака», в котором рассказывала о единственной встрече с ним в Переделкине и о «прощанье навек», которое напоминает прощание с «братом сестры» в поэме «Дачный роман».
Правда, отношение Ахмадулиной к Пастернаку в стихотворении 1962 года по трепету и благоговению можно сравнить скорее с отношением к Пушкину, но все же это вполне внятный отказ героини от повторной встречи с «братом» по литературе, нежелание войти в его дом:
Но должен быть такой на свете дом,
куда войти – не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
Я не пришла ни завтра, ни потом.
Думается, что «Памяти Бориса Пастернака» и «Дачный роман» можно рассматривать как своеобразную «двойчатку». При разборе двойчаток Мандельштама М. Гаспаров указывает, что, работая над стихотворением «Соломинка», Мандельштам усложняет и зашифровывает его все больше от этапа к этапу, вторая часть двойчатки представляет собой «зеркальный конспект первой», в ней «образы напряжены и уплотнены гораздо больше». Ученый приходит к следующему выводу о смысле жанра двойчаток и тройчаток у Мандельштама:
«Мы не знаем, как пришла к Мандельштаму мысль перемонтировать уже написанное стихот ворение и опубликовать второй вариант рядом с первым. Можно предположить, что главным здесь было ощущение разницы двух эмоциональных ключей – взволнованной нежности и спокойной торжественности. Первая редакция стихотворения целиком строилась на взволнованной нежности и жалости, потом эта эмоция постепенно вытеснялась заклинательной торжественностью. Овладев этой новой интонацией, поэт попробовал построить на ней стихотворение с самого начала – не закончивши ею, а с нее начавши. Получился текст, не отменяющий, а дополняющий первый и зеркально примыкающий к нему, – этот зеркальный эффект и побудил, по-видимому, автора сделать новаторский шаг: напечатать оба варианта подряд».
Ахмадулина не делает подобного новаторского шага, но сопоставление стихотворений позволяет увидеть в первом «спокойную торжественность» состоявшейся «предвечной» встречи с Пастернаком, а во втором – «взволнованную нежность» первого знакомства с его неповторимой поэзией.
Сравним «Памяти Бориса Пастернака» (1) и «Дачный роман» (2).
Мотив фосфоресцирующего сияния поэта (1) :
Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.
Фосфоресцирующее сияние как знак любви «брата» к лирической героине (2):
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился – еле видный,
доныне излучает свет
ладонь…» – с печалью деловитой
я поняла, что он – поэт.
Величие минуты прощания с Пастернаком (1):
— Прощайте же! – так петь
между людьми не принято.
Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.
Выбор между жизнью (Живаго-Пастернаком) и любовью (Пушкиным) в «Дачном романе» (2):
Брат сестры, прощай навеки!
На материале сравнения видно, что сущетвует как содержательная, так и формальная связь между двумя текстами Ахмадулиной. Первый является поэтическим впечатлением от реальной встречи с Пастернаком, что подчеркнуто прозаическими отступлениями внутри текста, разъясняющими некоторые поэтические образы. Второе, от начала до конца являясь художественным вымыслом, позволяет поэту свободно выражать свои мысли о жизни, любви, смысле поэзии, отдавать явное предпочтение одному поэтическому мировосприятию (Пушкину) перед другим (Пастернаком).
Далее, вслед за Пушкиным, в романе «Евгений Онегин» вступающим в диалог с читателем, поэтесса обращается к своему читателю, который призван рассеять заблуждения героини относительно возможности столь призрачной любви. Героиня «Дачного романа» готова отказаться от мучительного самообмана:
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
робком сходстве с Анной Керн!
Ахмадулинский Пушкин влюблен в «сестру брата» – жизнь, или, как вариант, предпочел бы пастернаковскую поэзию ахмадулинской. Не случайно пушкинское «чудное мгновенье» столь напоминает гётевское «Мгновенье! / О, как прекрасно ты, повремени!» в переводе Пастернака.
Воскрешенный творческим усилием героини «Пушкин» ведет себя подобно Онегину, не ценя «возможное, близкое» счастье и мечтая о невозможном. В этом он вполне солидарен со своим «автором» – лирической героиней Ахмадулиной, отказавшейся от живой любви к «брату» в пользу призрачной – к погибшему Пушкину:
В час грустных наших посиделок
твержу ему: – Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков – во мглу веков
назад сошлю!
Не отвечает
и думает: – Она стихов
не пишет часом? – и скучает.
Ночные грустные посиделки, общий мистический колорит позволяет прочесть этот эпизод поэмы на фоне баллад В. А. Жуковского «Людмила» и «Светлана», восходящих к поэме Бюргера «Ленора», тема которой – возвращение жениха-мертвеца за своей невестой и их путь ко гробу. Жуковский создал две версии этой баллады: взбунтовавшаяся и отчаявшаяся Людмила погибает, а смиренная и безгрешная Светлана спасена.
Героиня Ахмадулиной пытается управлять воскресшим «божеством и вдохновением», ревновать и требовать от него «и жизнь, и слезы, и любовь», подобно Людмиле Жуковского, но, не получив взаимности, отпускает своего любимого, возвышаясь над личным страданием силой творчества. Просветленное страдание героини в финале поэмы напоминает «молчаливый и грустный» образ Светланы, который использовал Пушкин для характеристики своей героини Татьяны.
Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.
В этом преодоленном страдании слышится отзвук другого приверженца поэзии Пушкина – Афанасия Фета, в стихотворении которого «Одним толчком согнать ладью живую» (1887) много общих мотивов с «Дачным романом». Назовём некоторые из них: выход в «жизнь иную» через прерывание «тоскливого сна» обыденной жизни; «тайные муки» как цена за проникновение в чужой мир; преодоление творческой немоты при встрече с «призраком» и поэтический «венец» как награда за долгое плаванье одинокой «ладьи живой». Как известно, Борис Пастернак считается одним из наиболее самобытных продолжателей в XX веке импрессионистической линии Фета, поэтому обращение Ахмадулиной к фетовскому образу «ладьи» – это еще одно возвращение к образу безответно влюбленного «брата».